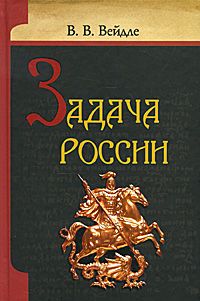Владимир Вейдле - Задача России
Поэзия Пушкина есть чудо живой формы, безыскуственного искусства, но такое чудо повториться не могло. Трагедия культуры заключается в том, что жизнь и форма не могут быть приведены в постоянное, устойчивое соответствие. После пушкинского чуда всякая другая поэзия отвердела бы, иссохла; русская разрыхлилась, разными способами расшатала форму — не пушкинскую, а форму вообще. То же случилось с русским романом после «Героя нашего времени», с русской музыкой после Глинки; что же касается других русских искусств, то они тяготели к бесформенности и в XVIII, и в XIX, и продолжают к ней тяготеть в XX веке. Во Франции классический стиль Империи жестко торжествен и насквозь сух, но русский усадебный «ампир» — самая мягкая, самая неархитектурная архитектура на всем свете. Первое, что бросается в глаза в портретах Шубина и Левицкого сравнительно с их французскими образцами – это опять-таки некоторая мягкость и рыхлость форм, очень подходящая, впрочем, к характеру тех русских лиц, что они изображают на холсте и в мраморе. Приблизительно в том же духе недооформлен Венецианов, и в совсем другом, но еще менее оксюрмлен Суриков. Крушение передвижников объясняется не отсутствием таланта, а тем, что они стыдятся живописи и заботятся о чем угодно, кроме нее. Затаенная боязнь формы приводит к применению готовых форм, каких попало, в надежде, что вывезет «нутро». Музыкальная грамматика Запада отталкивает русских музыкантов, и гений Мусоргского обходится без нее, а Чайковский, усвоивший ее вполне, относится к ней с опаской и потому не умеет, где нужно, ее сломать. Некрасов так шарахается от всякой формы, что нет-нет да и напялит на себя такие жалкие ее побрякушки, от которых непременно отказался бы последовательный и строгий формалист. Но все это не просто изъян; это лишь обратная сторона величия русской литературы и русского девятнадцатого века. Формобоязнь так же неразрывно связана со всем лучшим, что у нас есть, как наивно-прямолинейное отрицание искусства у Толстого с толстовским художественным гением.
Та непосредственность, что так поражает иностранцев в русской актерской игре, русском танце, пении, русском романе, что заставляет их в недоумении спрашивать себя, где же кончается русская манера жить, русский обиход и где начинается искусство Толстого или Чехова, — эта непосредственность, прямота, простота есть лишь следствие того недоверия к форме, той боязни, что она солжет, которыми одержим русский человек и ради которых он способен отбросить всякое искусство. Чувство это приводит к злейшей расхлябанности слова, как в стихах Полонского или Случевского, к слабости композиционных, т.е. рассудочно-волевых элементов в живописи и архитектуре, в музыке и романе, к недостаточной дифференцированности чувственных восприятий, что сказывается, например, в отсутствии последней колористической зоркости у живописцев или в ритме прозы, то не вполне проверенном (как у большинства), то чересчур подчеркнутом (как в лирических периодах Гоголя или Андрея Белого). За пределами искусства тот же инстинкт ведет к отрицанию иерархического принципа, признание которого смешивают у нас с чинопочитанием, и к непременному восстанию не столько против власти как таковой, сколько против власти, облеченной интеллектуальным или моральным авторитетом. Иерархия и авторитет — духовные формы, которые русский человек отказывается свободно признавать, предпочитая, чтобы их грубая материализация была навязана ему силой. Точно так же отказывается он считаться с тем расстоянием, что отделяет всякого человека от всякого другого человека; отсюда фамильярность — от лобзаний до рукоприкладства — в отношении высшего к низшим, смесь неуважения с подобострастьем в отношении низших к высшему, а между равными — распространеннейший из русских видов пошлости: панибратство. На иных путях та же боязнь формы ведет к бесчеловечной жесткости или к ненужной притязательности форм там, где обойтись без них представляется невозможным: к табели о рангах и «кнуто-германской империи» или к педантически-возвышенному и неосуществимо-грандиозному замыслу «Мертвых Душ» или ивановского «Явления Христа народу». Доведенная до предела формобоязнь легко переходит в решительное формопоклонство; Кутузов и Сперанский, Бакунин и Пестель одинаково русские умы, и несносная накрахмаленность брюсовских стихов — только реакция против души нараспашку его предшественников.
И все-таки за всем этим скрывается то самое, что составляет наибольшее своеобразие и величайшее сокровище русской культуры: ее все еще расплавленное, не застывшее, как у других народов, религиозное, христианское ядро. Боязнь формы в самых глубоких своих корнях есть не что иное как боязнь самодовления любой ценности, забывшей о всеединстве, пренебрегающей своим оправданием в религии. В искусстве, да и не только в искусстве она оборачивается прежде всего боязнью красоты — любой красоты, которая не есть одновременно правда и добро и которая именно поэтому грозит оказаться риторикой, декорацией, пустым блеском, суетой и мишурой. «Не говори красиво» — не только девиз такого симпатичного тургеневского нигилиста, но уже и завет Пушкина, чье отвращение к фразе, к изящному иносказанью, к многословной украшенности речи отнюдь не внушено одной лишь эстетической разборчивостью. Не надо быть русским, чтобы ценить сдержанность, трезвость, четкость в жизни и в искусстве; такие требования нередко предъявлялись к человеку и к художнику у всех народов, и выполнение их повсюду приводило к простоте, отбрасыванью лишнего, к честной прямоте приемов и манер. Однако Пушкин хочет простоты прежде всего потому, что ищет правды, и никто не станет смешивать рецептов классицизма или джентльменства с русским презрением ко всему, что можно назвать духовной нарядностью, с русской тягой к святой и убогой наготе. Тут нет ничего общего с трезвостью, сдержанностью и четкостью, тут — не призыв к умеренности и добрым нравам, а совсем иная жажда, идущая из совсем иной душевной глубины. Древнерусское искусство иконописцев, зодчих, проповедников не боялось формы и не стыдилось красоты, потому что красота была для него лишь сиянием Божией Славы, которое даже и не мыслилось отдельно от ее источника. Зато величайший русский художник нового времени Александр Иванов вопреки придуманному своему неверию именно стыдится своего дара и лучших своих удач, и мечтает лишь о той картине, где должны воплотиться истина (археологическая) и добро (сведенное к рассудочной морали). Отсюда же проистекает толстовское отношение к искусству и его же, как и многих русских людей, отношение к истине. Слишком многие у нас стыдились обоих, поскольку не усматривали в них никакой связи с практической нравственностью. Русское неуважение к науке как таковой столь же мало похоже на западный утилитаризм, как русская боязнь искусства — на западное пуританство; у нас подмешивали добро к истине и красоте лишь потому, что, сами того не зная, жаждали их растворения, их единства в том всеобъемлющем сиянии.
Той же тоской по нем, тем же ущербом его осознанности при еще непотушенном христианском пламени внутри объясняется, вероятно, торжество в русской культуре нового времени того религиозного мотива, что на богословском языке называется кенотическим [5].
Это мотив исконно христианский, могущественно представленный в Древней Руси, хорошо известный Западу (наряду с Достоевским, его величайший выразитель в искусстве — Рембрандт), но никогда с такой исключительностью не пронизавший целую культуру, как это случилось в России в девятнадцатом столетии. Державин был, кажется, последним русским, видевшим Бога на престоле, во славе; после него никто не видел Его вверху, а все — внизу. Прозрения Достоевского о Богородице — мать-сырой земле так же относятся сюда, как его Мармеладов, Мышкин, «дитё», как все его творчество, как вся русская литература (идущая не от «Шинели», а от «Станционного смотрителя»), как все русское «кающееся дворянство» и народничество, как мужицкий Христос Толстого и красноармейский Христос Блока. И не только в непосредственно-религиозных видениях, в непосредственно-религиозном опыте сказывается эта основная склонность русской души, но и в той зачарованности всем смиренным, униженным, падшим, что «сквозит и тайно светит» повсюду, в самом глубоком, что было у нас создано. Быть может, в 1830 году, в Болдине, начинается кенозис русского искусства, который, несмотря ни на что, не кончился и сейчас. Когда читаешь:
Два только деревца. И то из них одно
Дождливой осенью совсем обнажено,
И листья на другом, размокнув и желтея,
Чтоб лужу засорить, лишь только ждут Борея.
И только. На дворе живой собаки нет.
Вот, правда, мужичок, за ним две бабы вслед.
Без шапки он; несет под мышкой гроб ребенка
И кличет издали ленивого попенка,
Чтоб тот отца позвал да церковь отворил,
Скорей! ждать некогда! давно бы схоронил… —
сомневаться нельзя: это и есть та поэзия в рабском виде, та святая убогость, та смиренная красота, для которой Тютчев нашел кратчайшую поэтическую формулу и которую давно успел заметить и понять даже и «гордый взор иноплеменный». Больше сорока лет назад Жак Ривьер, прослушав «Бориса Годунова», писал: «Мелодия Мусоргского — это повесть об уничижении», — и развивал свою интуицию в короткой, но замечательной статье, лучшей, быть может, из всего, что написано об этой музыке. С тех пор многие на Западе сумели понять, что значит у Достоевского непереводимое это слово: «кроткая», и тайное свечение открылось многим. Конечно, нельзя объявлять кротость, отсутствие фарисейства и даже «милость к падшим» неотъемлемыми чертами русского характера, хотя и верно сказал Розанов: «Ницше почтили потому, что он был немец, и притом страдающий (болезнь). Но если бы русский и от себя заговорил в духе; «падающего подтолкни», — его бы назвали мерзавцем и вовсе не стали бы читать». Нельзя в смирении, в уничижении видеть (как хотел этого Достоевский в Пушкинской речи) осуществленную добродетель, победу принципа «смирись, гордый человек»; однако именно на этих свойствах основан русский идеал человека, русское представление о добре и святости; на этих дрожжах изошла вся новая русская культура.