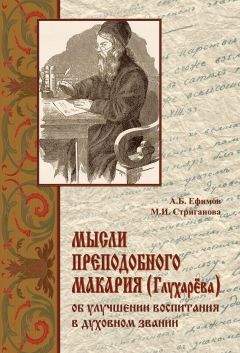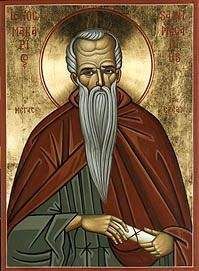Мирча Элиаде - Ностальгия по истокам
В заключение, можно сказать, что историк религий, не принимающий эмпиризма или релятивизма некоторых социологических и исторических школ, чувствует себя обманутым. Он знает, что обречен работать исключительно с историческими материалами, но он в то же время сохраняет чувство, что эти материалы говорят ему больше чем только то, что они отражают исторические ситуации. Он смутно чувствует, что они открывают ему важные истины относительно человека и связь человека с сакральным, но он не знает как понять эти истины. Это проблема навязчиво преследует многих современных историков религий. Были предложены некоторые ответы. Но сам тот факт, что историки религии ставят этот вопрос является более важным чем ответы, которые они могли на него дать. Как это часто случалось в прошлом, правильно и умело поставленный вопрос может вдохнуть в уже истощенную науку новую жизнь.
Глава IV
Кризис и обновление истории религий
Мы должны откровенно признать, что история религий, или, иначе говоря, сравнительная история религий (Comparative Religion)1 играет в современной культуре достаточно скромную роль. Если вспомнить страстный интерес, с которым общество второй половины XIX века следило за движением мысли Макса Мюллера относительно происхождения мифов и эволюции религий и за его полемикой с Эндрью Лангом, если вспомнить об успехе «Золотой ветви», о «пралогическом мышлении», о «мистической сопричастности», если вспомнить, что «Происхождение христианства», «Пролегомены к изучению греческой религии», «Первичные формы религиозной жизни» были настольными книгами наших отцов и дедов, если вспомнить все это, то современное положение в этой области может вызвать только грустные настроения.
Можно, конечно, ответить, что в наше время нет больше Макса Мюллера, Эндрью Ланга или Фрейзера. Это верно не потому, что современные историки религий не могут идти ни в какое сравнение по авторитету и значимости со своими знаменитыми предшественниками, а потому, что они скромнее, незаметнее, тише. Почему же современные историки религий так себя ведут? Можно попытаться ответить на это следующим образом: они поступают так потому, что усвоили урок своих великих предшественников, потому, что отдают себе отчет в том, насколько неправомерной, потерявшей силу оказывается любая преждевременная гипотеза, насколько непрочно и шатко любое слишком амбициозное обобщение. Но я сомневаюсь, что в какой-либо дисциплине творческий дух может отказаться от завершения своих чаяний по причине хрупкости и ненадежности результатов своих предшественников. Ингибиция, торможение, которым в настоящее время страдают историки религий имеет, конечно, более сложные причины.
«Второе Возрождение»
Прежде чем обсуждать эти причины, я хотел бы вспомнить об аналогичном примере из истории современной культуры. «Открытие» Упанишад и буддизма в начале XIX века превозносилось как культурное событие, предвещающее самые значительные последствия. Шопенгауэр сравнивал открытие санскрита и Упанишад с новым открытием «подлинной» греко-латинской культуры во время итальянского Ренессанса. На Западе ожидали, что столкновение, встреча с индийской философией вызовет радикальное обновление европейской мысли. Но, как известно, никакого «второго Ренессанса» не произошло и за исключением моды к изучению мифов, возникшей после появления работ Макса Мюллера, открытие индийского менталитета, духовности не дало толчка сколь-либо сильному духовному движению на Западе. В настоящее время этой неудаче дается два главных объяснения. С одной стороны, кризис метафизики и торжество материалистической и позитивистской идеологии во второй половине XIX века. С другой стороны, тот факт, что усилия первых поколений индологов сконцентрировались на издании текстов, словарей, исторических и филологических исследований, так как для того, чтобы иметь возможность более глубокого изучения индийской философии нужно было во что бы то ни стало поставить на должный уровень филологию.
И однако, на начальных этапах исследования индийской мысли были сделаны достаточно смелые и значительные обобщения. Эжен Бюрнуф (Eugene Burnouf) опубликовал свой труд «Введение в историю индоевропейского буддизма» (Introduction a l'histoire du bouddhisne indien, 1844), Альбер Вебер, Макс Мюллер, Абель Бергень брались за такие задачи, которые кажутся гигантскими даже нам, с нашими более глубокими филологическими знаниями. В конце XIX века Пауль Дауссен пишет историю индийской философии, Сильвен Леви (Sylvain Levi) дебютирует, публикуя такие работы, который иной из современных идеологов мог бы написать только в конце своей жизни («Учение о жертвоприношении у браманов», 1898; «Театр Индии», 2 тома, 1890) и еще в свои молодые годы он выпускает объемистую трехтомную монографию «Непал» (1905–1908). Герман Ольденберг пишет обобщающие труды о религиях Вед (1894), а также о Будде и древнем буддизме (1881).
Несостоятельность этого «второго Ренессанса», импульсом для которого послужили открытие санскрита и индийской философии, не была результатом чрезмерного увлечения ориенталистов филологией. «Ренессанс» не удался не только потому, что изучение санскрита и других восточный языков не выходило за пределы круга философов и историков, тогда как во время итальянского Ренессанса греческий и латинский языки изучались не только грамматиками и гуманистами, но также поэтами, художниками, философами, теологами, учеными. Пауль Дауссен в книгах об Упанишадах и Ведах, стараясь придать индийской философии больше «поэтичности», интерпретировал ее в свете немецкого идеализма, показав, к примеру, что некоторые идеи Канта и Гегеля содержались в зародыше в Упанишадах. Он рассчитывал послужить делу индологии, акцентируя аналогии, существующие между индийской философией и западноевропейской метафизикой. Этим самым он надеялся пробудить интерес к индийской философии. Дауссен был крупным ученым, но неоригинальным мыслителем. Можно представить, что было, если бы встреча индийской философии и творческого западноевропейского духа материализовалась бы в личности Фридриха Ницше. Если взять конкретный случай, можно оценить результат творческого взаимодействия с мусульманской мистикой и философией на примере того, что смог столь глубоко религиозный ум как Луи Массиньон извлечь из Аль Галаи и того, каким образом философ и теолог Анри Корбен интерпретирует философию Сораварди, ибн Араби и Авиценны.
Уже давно индология равно как и ориенталистика в целом стала «почтенной» наукой, но того ослепительного будущего, которое ей предсказывал Шопенгауэр, она не дождалась. Возможность стимулирующей встречи с мышлением Азии и Индии остается, но это взаимодействие будет результатом истории, так как Азия в настоящее время является участницей исторического процесса: эта встреча не будет плодом западноевропейской ориенталистики.2
Тем не менее, Европа неоднократно демонстрировала свое желание, свою жажду диалога и обмена с неевропейскими культурами. Вспомним впечатление, которое имела первая выставка японской живописи на французских импрессионистов, влияние африканской скульптуры на Пикассо, или последствия открытия «первобытного искусства» на сюрреалистов первого поколения. Все эти примеры, однако, относятся к художникам, а не к ученым.
Целостная герменевтика
История религий как самостоятельная дисциплина образовалась почти сразу после появления ориенталистики (в какой-то мере опираясь на исследования ориенталистов) и она в огромной мере воспользовалась результатами прогресса антропологии. Иными словами, двумя важнейшими фактологическими источниками для нее были и еще являются культуры народов Азии и тех народов, которых мы за неимением лучшего термина называем «примитивными». Как в одном так и в другом случае речь идет о тех народах, которые уже полвека как освободились от европейской опеки и взяли на себя свою долю ответственности в развитии цивилизации. Трудно себе представить какую-нибудь другую гуманитарную дисциплину более чем история религий подходящую одновременно и для расширения культурного горизонта Европы и для сближения с представителями восточных и архаических культур, так как, в конечном счете, как бы ни были исключительны дарования, самый крупный индолог и самый известный антрополог значительно замыкаются в своей собственной области, которая, впрочем, сама по себе бесконечна, тогда как историк науки, остающийся верным целям своей дисциплины, должен знать основные аспекты религий Азии так же как и самые существенные стороны религий «примитивных» и должен быть в курсе основных концепций религий древнего Ближнего Востока и Средиземноморья, иудаизма, христианства и ислама. (Речь идет не о том, чтобы овладеть этими областями с точки зрения филолога и историка, а о том, чтобы только ассимилировать исследования специалистов и объединить, интегрировать их в специфическую перспективу истории религий. Фрейзер, Клеман, Петтаццони, ван дер Лиев пользовались достижениями, полученными во многих областях. Их не удалось превзойти, даже если мы не можем принять их обобщения и интерпретации).3