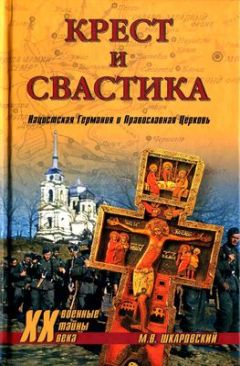Сергей Фирсов - Русская Церковь накануне перемен (конец 1890-х – 1918 гг.)
Но тогда, в конце 1898 г., к митрополиту относились совершенно иначе. Назначение столичным архиереем производилось, в соответствии с обычаем, императором по докладу обер-прокурора Святейшего Синода. Как писал протопресвитер Георгий Шавельский, в Петербург всегда попадали люди покладистые, спокойные, часто безынициативные, а иногда и беспринципные. «Митрополит Антоний попал в Петербургские митрополиты только потому, – указывал протопресвитер русской армии и флота, – что, при многих блестящих дарованиях его ума и сердца, он отличался обидной безынициативностью и слишком большой покладистостью»[111]. Эти качества владыки отмечал и сам Победоносцев, в минуты досады говоривший: «Кто нашего митрополита [как метлу] в руки возьмет, тот и метет»[112].
С такими характеристиками трудно полностью согласиться. Его участие в деле церковного реформирования, нескрываемое желание изменить антиканонический строй церковной жизни и созвать Собор говорят сами за себя. Но при этом владыка понимал свои возможности, никогда не старался действовать наперекор здравому смыслу, умел находить компромиссы. Тактичность, политическая корректность и уважение к мнению другого, думается, и доставили митрополиту несправедливую славу человека слабохарактерного. Парадоксальным кажется, что Антония зачастую воспринимали как человека «без энергии и импульса, без широких начинаний и крупных дел»[113].
Вспоминая о такой оценке владыки и отказываясь даже обсуждать подобные «высокие материи», профессор Н. Н. Глубоковский полагал, «что тогда надо было всемерно стараться, чтобы таких „великих“ событий совсем не появлялось и не совершалось в России…» Умение вести себя скромно, отказавшись от традиционных архиерейских почестей, самоотречение и бессеребреничество, которыми был известен митрополит до революции 1905 г., необходимо назвать главными качествами его характера. – «Его всегдашним желанием было всем помочь и всем послужить по мере своих сил, и в этом отношении он обнаруживал самую исключительную терпеливость при неослабном благодушии»[114]. Все свои архиерейские средства (несколько тысяч рублей в год) митрополит тратил на тайную благотворительность, ежемесячно раздавая стипендии и пособия нуждающимся.
Он искренно, по-русски, жалел «тюремных сидельцев» – в Пасху, на Рождество, а также в другие праздничные дни имел обычай посещать заключенных, беседовать с ними. Бывал и у «политических» в Шлиссельбургской и Петропавловской крепостях. «Он был человек веротерпимый и умел понимать других», – как-то сказала о нем В. Н. Фигнер, с которой митрополит дважды встречался в тюрьме. Ничего не зная о внутренней истории «русской каторги», он, впервые услышав эту историю от Фигнер, «был взволнован, потрясен». Известная революционерка произвела своей искренностью огромное впечатление на митрополита, который обещал ей узнать, будет ли изменена участь шлиссельбуржцев в связи с вышедшим в 1904 г. манифестом о рождении наследника[115]. Однако владыка, с 1900 г. являвшийся первоприсутствующим членом Святейшего Синода, реально на что-либо повлиять не мог; действительная власть находилась в руках Победоносцева. Практически все свои «политические» действия митрополит должен был согласовывать с обер-прокурором. В этом, думается, и заключалась главная причина пресловутой «безынициативности» столичного архипастыря.
Впрочем, эта «безынициативность» никак не мешала владыке, в случае согласия светских менторов Церкви, всячески содействовать разрушению кастовой замкнутости духовенства, сотрудничеству с богоискательски настроенной интеллигенцией. Как только ведомство православного исповедания разрешило открыть Религиозно-философские собрания, митрополит благословил ректору столичной духовной академии епископу Сергию (Страгородскому) быть их председателем, а также дозволил участвовать в них всему духовенству, академическим профессорам и преподавателям. Даже студенты академии, по выбору, могли посещать собрания. Характеризуя Религиозно-философские собрания, Д. С. Мережковский заметил, что тогда «впервые русская Церковь, и, может быть, не только русская, но и вся вообще историческая христианская Церковь, встречалась лицом к лицу со светским обществом, с культурой, с миром, не для внешнего, насильственного, а для внутреннего свободного общения»[116]. И хотя спустя полтора года по распоряжению Победоносцева собрания были закрыты, сам факт их существования говорил о возможности диалога светского и церковного обществ. То, что духовенство откликнулось на призыв, не испугалось дискуссии с «миром», – несомненная заслуга митрополита Антония.
По всей вероятности, в другое время владыка Антоний вошел бы в историю как «хороший» архиерей, знавший и любивший свою паству, которая отвечала ему взаимностью. Но в начале XX столетия он оказался в столь сложной политической ситуации, что все его положительные качества и таланты были принесены в жертву одной задаче – так и не проведенной реформе церковного управления. Деятельность столичного митрополита в 1905 г., о которой подробно будет говориться ниже, в следующей главе, определялась постоянно менявшейся политической конъюнктурой. Первоприсутствующий член Святейшего Синода в тех условиях, естественно, стал центральной фигурой, на которой сфокусировалось все дело реформы. Симпатии и антипатии иерарха в этом случае на какое-то время перестали быть его «личным мнением», став определяющими для всех тех, кто интересовался вопросом о каноничности устройства Церкви или же был напрямую связан с ведомством православного исповедания.
Не желание стать патриархом, а здравый смысл и природная мудрость заставили покладистого и мягкого Антония использовать инструменты светской власти для решения внутрицерковных дел, заговорить о дефектах синодальной системы. Удивительного в этом мало: ведь власти-то в России были «симфоническими»! Следовательно, укрепление начал веротерпимости, о котором заговорили в конце 1904 г. в Комитете министров, напрямую затрагивало Церковь и должно было привести к обсуждению вопросов «о желательных преобразованиях в постановке у нас Православной Церкви». Поставить эти вопросы должен был первенствующий член Святейшего Синода, то есть митрополит Антоний. Впрочем, проблема заключалась в другом: Победоносцев волею обстоятельств оказался «обойденным», ему показалось, что митрополит интригует против власти обер-прокурора в собственных корыстных целях. Более того, к сотрудничеству митрополита пригласил председатель Комитета министров СЮ. Витте, в чье политическое бескорыстие Победоносцев никогда не верил. Да и разговор о церковных реформах шел на фоне революционного движения и параллельно ему. А с каждым месяцем 1905 г. это движение становилось все более и более интенсивным.
Разумеется, любые разговоры о реформах неминуемо выводили на вопрос о корректировке церковно-государственных отношений и, следовательно, затрагивали прерогативы обер-прокурорской власти. Тревога Победоносцева понятна, равно как и его нежелание созывать Собор – в тех условиях он видел в этой затее лишь новый источник смуты. Победоносцев пытался убедить самодержца в том, что именно Антоний «изобрел церковную реформу». Обер-прокурор предлагал Николаю II созвать Собор когда-нибудь потом, «в спокойную пору, и для всех вопросов церковных, как бывало прежде, а не для одного вопроса о патриархе»[117]. Получалось, что Антоний предлагал созвать Собор лишь с целью стать патриархом, а остальные вопросы его интересовали мало. Ранее же, можно было подумать, все церковные вопросы решались соборно! Комментировать здесь нечего, но стоит заметить определенную тенденцию – видеть за выступлениями иерархов только корыстные интересы. Даже такой тонкий человек как генерал А. А. Киреев не удержался и в конце декабря 1904 г. назвал владыку человеком, слишком приноравливающимся к направлению [политического] ветра, желающим со всеми ладить, ведь – «конечно ему патриаршество улыбается»[118].
1905 г. стал для петербургского митрополита временем испытаний – ему приходилось оправдываться в том, что у него нет «корысти», что не он был инициатором контактов с СЮ. Витте, что к Победоносцеву относится с искренним уважением. Ему не верили. В правых кругах владыку считали лицемером и всерьез рассуждали о его назначении экзархом Грузии. Столичные священники, узнав об этом, организовали 29 апреля 1905 г. заседание в поддержку митрополита. Заседание закрыла полиция. «Пока еще не достоверно насчет перемещения митрополита Антония, – писала в дневнике хозяйка правого салона А. В. Богданович, – но если оно и состоится, то многие скажут: слава Богу, избавились от паршивого пастыря! Нельзя быть первенствующим иерархом Православной Церкви и интриговать с Витте о ниспровержении существующего строя», – и далее: «Вот так царь! Даже митрополит Петербургский у него фальшивый, дурной человек!»[119]. Другой правый, Б. В. Никольский, в своем дневнике восклицания о кризисе сопровождал рассуждениями о бездарности императора, необходимости пожертвовать некоторыми членами династии и, ко всему этому, всерьез писал о желательности «расстрижения» митрополита Антония[120]. Свое негативное отношение к владыке не скрывал и бывший его ученик епископ Волынский Антоний (Храповицкий), в частной переписке с уже упомянутым Никольским заявивший, что столичный архипастырь «совсем сбился с толку», что твердых убеждений у него никогда не было, и что он «отдает Церковь в лапы пьяным дьячкам-нигилистам, изображающим из себя академические корпорации»[121].