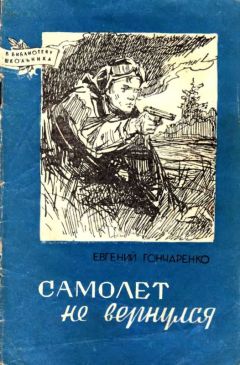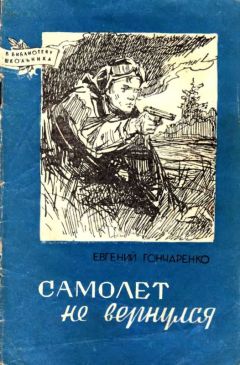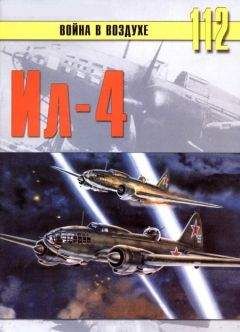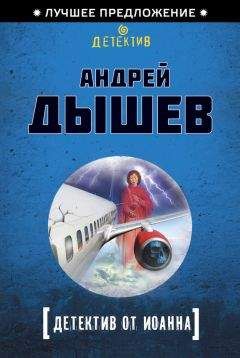Стивен Бэчелор - Что такое буддизм? Как жить по принципам Будды
«Впервые, – написал я в своем дневнике той ночью, – я увидел в нем личность, не связанную традицией, несмотря на то, что он был так глубоко в нее погружен. Он прост, но невероятно ясен. Кажется, в его голове осталось совсем немного нерешенных проблем. Его смирение столь сильно, что оно обращается в харизму. Было поразительно видеть его среди людей на улице, не окруженного подобострастными взглядами или помпезностью». Но как бы я ни восхищался им, Далай-лама все еще был для меня священной фигурой, а не кем-то, с кем я мог поделиться личными проблемами. В отличие от некоторых моих товарищей, я не обращался к нему с формальной просьбой, чтобы он был моим «учителем». Частично это объяснялось моей застенчивостью и низкой самооценкой; но, одновременно, я прекрасно понимал, учитывая прочие его многочисленные обязанности, что такие отношения никогда не будут больше, чем просто символическими.
Два дня спустя (18 июля) я записал в дневнике: «Твердо решил покинуть монастырь в конце года. Сначала отправлюсь в Индию, чтобы изучать дзогчен, а затем – в Японию». Дзогчен (Великое совершенство) – это практика внимательности, которая преподается в школе Ньингма тибетского буддизма и в некотором отношении подобна випассане. Мое желание поехать в Японию было обусловлено стремлением изучить менее сложные и более непосредственные виды медитации, распространенные в дзэн-буддизме. В обоих случаях меня привлекали буддийские практики, которые не требовали визуализации сложных божеств, мандал и бесконечного начитывания мантр. Я находил все более бессмысленными ежедневные обязанности распевать многочасовые пуджи и читать тантрические садханы Ямантаки и Ваджрайогини. Я продолжал выполнять их, но из лояльности, а не убеждения. Они качественно никак не обогащали мой реально проживаемый опыт.
На следующий день, 19 июля, я поднялся по извилистой дороге в Заанен, деревню в горах выше Женевского озера, на заднем сиденье мотоцикла, чтобы послушать речи индийского антигуру Джидду Кришнамурти, обращенные к еще большему собранию людей в другом шатре. Теософическое общество мадам Блаватской объявило Кришнамурти, когда он был еще ребенком, новым «Мировым Учителем», и он был воспитан самым подходящим образом для этой роли. В 1929 году, в возрасте тридцати четырех лет, он официально разорвал свои связи с Обществом, возвестив, что «Истина – страна без дорог», которая, по самой своей природе, не может быть систематически изложена и не находится во власти никакой организации. С тех пор он неустанно совершал кругосветные путешествия с проповедью этого послания, преследуя единственную цель – «освободить» человека: «Я желаю освободить его от всех клеток, от всех страхов, не основывая какой-то религии или новой секты, новых теорий и философии».Кришнамурти оказался дряхлым стариком восьмидесяти четырех лет, безупречно одетым; он сидел на простом деревянном стуле и говорил страстно и непрерывно в течение двух часов. Я прежде никогда не видел никого, способного приковывать внимание аудитории так долго. Я написал в своем дневнике: «[Он сказал: ] Люди становятся монахами, чтобы вести простую жизнь, но шум их простоты препятствует тому, чтобы они были просты». Его речь была провокационной и погружала меня в размышления». Я симпатизировал пророческому видению Кришнамурти конца всех верований и религиозных учреждений, но в то же самое время что-то в его подходе, казалось, противоречило центральному посланию его учения. «Это не догматическое утверждение, – сказал он однажды, – это – факт». Когда человек в аудитории процитировал ему какие-то слова своего гуру, Кришнамурти поднял трясущуюся руку и отчитал его: «Сэр, вообще никогда не следует подчиняться авторитету другой личности». Видимо, только если этим авторитетом не является сам Кришнамурти.
8 августа я получил первое издание своего перевода Руководства по пути бодхисаттвы Шантидэвы, опубликованного в Дхарамсале Библиотекой тибетских трудов и архивов. Было очень приятно держать в руках плод пятилетних трудов и видеть свое имя, впервые напечатанное в книге. Несмотря на упор в буддизме на развитие внутренних качеств ума как на единственный подлинный источник благополучия, это внешнее признание моих заслуг – в форме хлипко переплетенной индийской книги в мягкой обложке – вызвало чувство удовлетворения и повышенной самооценки, что до сих пор одна только медитация была в состоянии мне предоставить.
К концу лета я понял, что стою на ничьей земле: геше Рабтен и Далай-лама были на одной стороне, Хайдеггер и Левинас – на другой. «Я стою обеими ногами в двух лагерях, – написал я, – иногда это очень неудобно». Несмотря на свое решение, я не оставил монастырь в конце года. (И при этом в будущем я никогда не буду глубоко изучать дзогчен или проводить много времени в Японии.) Я сказал геше Рабтену о своем желании вернуться в Азию, чтобы продолжить изучение и практику буддизма. «Само собой разумеется, – написал я 20 августа, – он не понял зачем, но и не стал отговаривать. Это вопрос времени. Я чувствую больше уверенности, чем прежде – аргументы на моей стороне, не на его, и я умею продвигать свою точку зрения». На самом деле я принимал желаемое за действительное. Геше Рабтен не особо уважал дзогчен или дзэн, которые, с точки зрения ортодоксального буддиста школы Гелуг, были ересью.
В конце концов я остался в Европе еще на полтора года, служа переводчиком для ученика геше Рабтена геше Тубтена Наванга, который недавно приехал из Индии, чтобы преподавать в только что открывшемся центре геше в Гамбурге.
Я прибыл в ПЬеНяскеэ ХеШгит, располагавшийся на берегу Эльбы в изящном пригороде Бланкенезе, 25 августа. Это было компромиссным решением моей дилеммы. Я должен был переводить всего дважды в неделю; геше Тубтен обучал меня каждый день философии мадхьямаки; в остальное время я мог заниматься своими собственными исследованиями и медитацией. Таким образом, я продолжал служить геше Рабтену, но при этом дистанцируясь от монастыря в Швейцарии. Возможно, геше Рабтен надеялся, что изоляция в далеком немецком городе под чутким взором его ученика охладит мой бунтарский дух.
Но этого не случилось. Вдруг у меня оказалось много свободного времени, в которое можно было читать более широкий круг литературы, чем я мог себе позволить раньше; размышлять более критически над тем, что я делал, и систематизировать мои собственные идеи. 22 октября я написал: «Перед тем, как я лег спать вчера вечером, нелепость бессмысленного начитывания всех этих мантр и молитв поразила меня с удвоенной силой. Я немедленно все прекратил. Сегодня я не читал их. Я не чувствую вины. В душе я прекратил повторять их уже давно; продолжать механическое воспроизведение больше не имеет смысла. Я не считаю, что ужасный адский огонь ждет меня. Я не могу следовать рутинной программе, которая не помогает жить полноценной жизнью. Религия – это сама жизнь: не механическое повторение догм, основанное на страхе и почитании». Таким образом, я отказался от всех священных обязательств, которые я взял на себя после получения тантрических посвящений за прошедшие семь лет. Никогда больше я не визуализировал себя в виде быкоголового Ямантаки или пьющей кровь Ваджрайогини в их небесных обителях света. Опираясь исключительно на свои собственные убеждения, я порвал с авторитетом тибетской буддийской традиции....Я не могу следовать рутинной программе, которая не помогает жить полноценной жизнью. Религия – это сама жизнь: не механическое повторение догм, основанное на страхе и почитании. Опираясь исключительно на свои собственные убеждения, я порвал с авторитетом тибетской буддийской традиции
12 декабря я начал писать. И с тех пор не останавливался. Мои записи для курса, прочитать который в Голландии меня пригласили в следующем январе, превратились в эссе «Экзистенциальные основы буддизма». Это было моей первой попыткой четко изложить свое понимание буддизма на языке современной западной мысли. Я писал: «Всякий раз, когда религия, воплощенная в чуждых культурно-исторических формах, пытается закрепиться в новой культуре и времени, ее понятия и символы должны пройти радикальную реконструкцию, чтобы войти в резонанс с “духом времени”». Я стремился в этом эссе показать точки соприкосновения между буддизмом и экзистенциализмом. «Что, – спрашивал я, – в нас самих толкает нас к религии? Жизнь предстает перед нами как неразрешенный вопрос. Существование поражает нас своей тайной, загадкой. Этот опыт отражается в наших вопросах “Почему?” и “Что?”. Различные религии мира предлагают различные систематические ответы на эти вопросы».
...Всякий раз, когда религия, воплощенная в чуждых культурно-исторических формах, пытается закрепиться в новой культуре и времени, ее понятия и символы должны пройти радикальную реконструкцию, чтобы войти в резонанс с “духом времени”