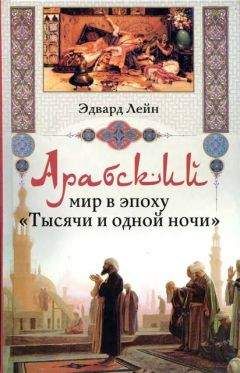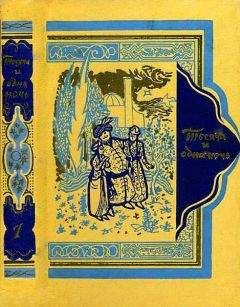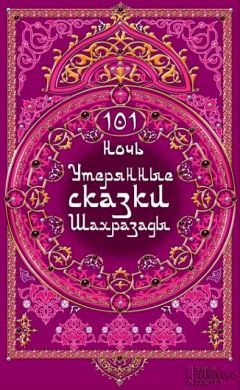Фёдор Степун - Бывшее и несбывшееся
Речь этого талантливейшего режиссера, всю жизнь горевшего желанием являть собою последнее слово эпохи, была типичнейшим образцом революционного футуризма, который в то время вел наступление по всему культурному фронту «Октября». Перед нами продефилировали если и не все понятия, то все же все слова кубистически–преломленной марксистской идеологии. Обвинительно–программная речь была произнесена с большим, но чисто актерским подъемом.
В результате выступления Мейерхольда последовало радикальное преобразование театра. В новом театре мне места уже не было. Так, не успев расцвести, была оборвана моя театральная деятельность.
Рассказывая в своих воспоминаниях о борьбе нового искусства с традиционными течениями в русской культуре, я мимоходом уже говорил, что встреченный прогрессивной печатью в штыки, футуризм был впоследствии признан большевиками за единственно полноценное художественное выражение духа октябрьского переворота. Для уразумения основной сущности большевистской стихии, этот факт имеет очень большое значение. Ни с социализмом, ни с пролетариатом, ни с интернационалом русский футуризм никогда не имел ничего общего. Это революционно–художественное течение было всегда вне политики и потому с самого начала таило в себе опасную возможность приспособления к любому, лишь бы радикальному политическому течению. В 1914–м году его вождь, Владимир Маяковский, громыхал стихами, в которых похвалялся вытереть окровавленные русские штыки о шелковые юбки венских кокоток.
Если футуристы все же стали не то, чтобы придворными певцами, но все же весьма преуспевающими агитсотрудниками новой власти, то объяснение этому факту надо искать не в социалистических убеждениях футуристов, а в общей большевикам и футуристам бакунинской вере, что страсть к разрушению есть подлинно творческая, то есть созидающая страсть. Крайность большевистских точек зрения, неумолимая последовательность в их развитии и осуществлении, предельное бесстрашие и безоглядность большевистских декретов и действий — все это было глубоко созвучно футуристической стихии.
Послав к чёрту лиры и свирели и засучив рукава, они наглою, молодою толпою высыпали на революционную улицу и самотеком влились в комиссариат народного просвещения.
Ни одна советская выставка, а выставки шли одна за другой, не обходилась без их участия. Устраивал ли наркомздрав выставку по борьбе с сыпняком, или союз народного хозяйства выставку сельских машин — с выставочных стен свисали все те же расписанные квадратами, треугольниками и кубами футуристические плакаты. По красным, протянутым под потолком из угла в угол, полотнищам пьяно и пестро плясали врассыпную буквы, как бы предлагающие сложить их в звучные социалистические лозунги. От этой абстрактно–геометрической иероглифики и шарадообразной эмблематики нельзя было укрыться даже и на улице: по капитальным стенам домов, по уцелевшим заборам, по охотнорядским палаткам, по холстам грузовиков, по вагонам агитпоездов — всюду, утомляя мозг и раздражая нервы, несся все тот же заумно красочный кордебалет футуристического конструктивизма.
Оскорбительнее всего эта назойливая декоративность была там, где ее обезформливающая страстность посягала на формы старого искусства, а то даже и самой природы. В октябрьские торжества в Петрограде «стройно–монументальный Александрийский столп был, — как рассказывает Эфрос, — уродливо расчленен какими–то пришпиленными к нему разноокрашенными холстяными квадратами и секторами». В майские же торжества 1919–го года в Москве газон и кусты в цветниках театральной площади были, в целях вовлечения их в общую праздничную конструкцию, густо выкрашены фиолетовой клеевой краской. Очевидно «формовщиков» новой жизни одинаково возмущало как «невозмутимая величественность подлинного искусства», так и самодовлеющая жизнь вечной и равнодушной к революциям природы.
Недаром футуристы и их многочисленные соратники, как я уже писал, рассказывая о «Бродячей собаке», именовали небо трупом, а звездную россыпь гнойною сыпью.
Войдя в доверие власти, футуристическое искусство само превратилось во власть. Засев в отделе изобразительного искусства народного комиссариата просвещения, в так называемое «Изо», футуристы немедленно же организовали во всех провинциальных городах его подотделы, по которым неустанно растекались распоряжения из центра: «К первому мая, — приказывало Изо, — украсить город формами нового революционного искусства… Представителей старого искусства к этому делу не допускать… пролетариату не нужна реалистическая жвачка».
В ответ на такие декреты, подкрепляемые весьма пристрастным распределением пайков, провинциальные города то по одному, то по другому поводу украшались все тою же футуристическою иероглификою разрубленных на слога и перемешанных с разноцветными геометрическими фигурами агитлозунгов. В некоторых из них, на поросших травой милых провинциальных площадях возникали, кроме того, футуристически деформированные фигуры гипсовых Марксов и Лениных. В Витебске, возведенный в чин комиссара талантливейший Марк Шагал расписал, как рассказывает тот же Эфрос, все вывески характерными «шагалесками» и поднял над городом стяг, изображавший его, Шагала, верхом на зеленой лошади и трубящим в рог: Шагал — Витебску.
Триумф футуристов длился недолго. Когда прошел первый пыл, глубоко реакционная и малограмотная в вопросах искусства партия поняла, что ей с футуристами не по дороге. Удалить футуристов было трудно: уж очень их поначалу вознесли. А потому решили уравнять их в правах со всеми иными течениями. Втайне большевики, вероятно, надеялись, что здоровый художественный инстинкт простого народа сумеет справиться с «последышами разлагающейся буржуазной культуры», как снова начали именовать футуристов, и поможет пролетариату открыть среди старых художников–реалистов более близких ему по духу глашатаев социалистической революции. Мечтая о поражении футуристов, наркомпрос раздал их врагам, натуралистам, громадное количество заказов на сооружение памятников русским писателям и революционным вождям. Обрадованные переменою ветра в верхах, старые мастера с рвением принялись за работу. Чуть ли не каждую неделю бегали мы смотреть на вновь открываемые памятники. Но, увы, среди них не оказывалось ни одного, подлинно монументального по духу и стилю сооружения, хотя бы приблизительно соответствующего размаху революции. Все было безразмерно и комнатно, все дышало безнадежною вчерашностью, а частично даже и глухим провинциализмом. Если в футуризме и не было искусства, то в нем все же была революция; в привлеченном же к революции старо–идейном натурализме не оказалось ни искусства, ни революции, а всего только ремесленная рутина и идеологическое приспособленчество.
Порвав с Государственным показательным театром, я некоторое время еще продолжал преподавать в театральных школах и студиях: у Корша, в Студии Лебедева и в Студии молодых мастеров. О последней сохранил наиболее приятное воспоминание. Несмотря на ее задорное, как будто бы даже рекламное название, и на чрезмерно большую ловкость, с которой ее юный руководитель маневрировал среди бесчисленных политических и финансовых трудностей, в ней все же господствовал не практически–карьерный, а товарищески–идеалистический дух. Работа велась с большим подъемом, с горячею верою в великое будущее русского театра. Настоящими праздниками среди ежедневной работы были редкие уроки Станиславского.
Окружив обожаемого Константина Сергеевича тесным кольцом, студийцы, затаив дыхание, ловили каждое его слово и напряженно следили за каждым его жестом, а он, наивный, сереброголовый шестидесятилетний ребенок, не чувствующий ни своей единственности, ни веса своей мировой славы, как–то уютно и почти смущенно стоял среди них и, не зная, чем дарит, одарял их и присутствовавших на его уроках преподавателей неоценимыми сокровищами своего гения и своего опыта. Обучал Станиславский тому, чему, кроме него, обучать никто не мог: умению вслушиваться в себя и различать в себе подлинное художественное творчество от его поверхностной имитации. Пользовался он при этом своими собственными, долгою практикой выработанными приемами.
— Вот диван, — говорил он, улыбаясь своею очаровательною улыбкою и своими солнечными агатовыми глазами, — вообразите, что в него воткнуты булавки, обшарьте его и постарайтесь вынуть их, но так, чтобы не уколоться. (В опубликованной впоследствии «Системе» этот пример развернут Константином Сергеевичем в более сложный драматический сюжет).
Ученики и ученицы по очереди подходили к дивану и.делая вид, что боятся укола, как будто бы осторожно шарили по нему руками.
— Не видно, друзья, чтобы вы верили в булавку,— говорил он юным мастерам, вкалывая в диван несколько вынутых из отворота пиджака булавок. Ученики снова шарили по дивану. Руки их, однако, уже иначе двигались по подушкам. Это, почти неуловимое для невнимательного глаза «несколько иначе», Станиславский и вскрывал ученикам в тех простых, ему одному свойственных намеках, которые сразу же вводили актера в живую правду сценического творчества.