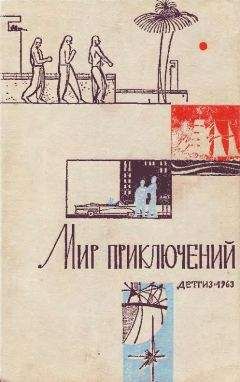Сборник статей - Ориентализм vs. ориенталистика
Примеры переводческих глупостей можно приводить до бесконечности. Вся книга полна ими. Порой встречаются настоящие «перлы», вроде «И если Анкетиль раскрыл перед нами широкие перспективы, то Джонс их захлопнул…» (на с. 121). Говоря про ужасавших европейских колонизаторов ислам и азиатчину, Саид пишет на с. 143 про придуманные ими средства «побороть столь ужасающие и неизменные величины», заменив их «тепличными созданиями». У Говорунова речь здесь почему-то заходит про «преодоление столь грозных констант», «парниковые, искусственные сущности». Или на с. 463: «В промежутке между жесткой и мягкой школами процветают более-менее разжиженные версии прежнего ориентализма, иногда сформулированные на новом академическом жаргоне, иногда – и на старом». На человеческий язык последнее предложение можно перевести так: «Между школами жесткого и более либерального толкования старого ориентализма появилось вместе с тем немало более или менее выхолощенных его разновидностей». В заключение приведу пример бессмысленного цитирования. Культура для Саида не органическая, а искусственно собранная сущность. Последнее он подчеркивает медицинским термином articulation, которое служит обозначением профессии доктора Венуса в «Нашем общем друге» Диккенса. Это слово без перевода и какого-либо комментария сохранено в «переводе» Говорунова (с. 233). Читатель долго будет недоумевать, что это за профессия такая, если не найдет нужное место в романе, где на визитной карточке Венуса красуется надпись: «препарирует и собирает (articulation) скелеты»[99].
Резюмируя оценку русского «Ориентализма», приходится признать его низкое качество и недостоверность. К сожалению, едва ли не каждый перевод с «иностранного» на русский сегодня никуда не годится. Причина этого кроется в гибели советской переводческой школы и общем одичании переводчиков, издателей (да и большинства читателей). Отмечу еще одну бросающуюся в глаза особенность русского издания Саида – его непрофессионализм. Простого взгляда на комментарии достаточно, чтобы понять, что их составители, как говорится, «не были в теме». Это заметно по ошибкам в передаче заголовков классических востоковедных трудов, например, одного из главных предметов критики Саида – книги Эдварда У. Лейна о Египте времен Мухаммеда-Али. Характерно, что в примечании 57 на с. 577 Лейн назван историком, хотя он был скорее филологом. Комментатор, видимо, не знал, что книга Лейна давно издана по-русски под редакцией известного арабиста В.В. Наумкина[100]. То же можно сказать про неизвестные ему русские переводы Грюнебаума и Таха Хусейна. Ему, похоже, не знаком и старый русский перевод писем Флобера, которые даются на с. 160–161 в двойном переводе с английского. Введение 2003 г. к самому «Ориентализму» было забыто и не вошло в русское издание. Среди нескольких сотен примечаний немало совершенно лишних, а про «концепты» воображаемой географии и пограничья-фронтира ничего не сказано. Некому было поправить Саида с придуманным востоковедами колониальной эпохи «ортодоксальным исламом» (с. 162). Наконец, отмечу от себя, что ни друзов (прим. 106 на с. 508), ни нусайритов (прим. 66 на с. 577) не стоило называть сектами. Такое определение, восходящее к колониальной ориенталистике, совершенно не соответствует истине.
Еще более странное впечатление складывается после чтения послесловия. Его автору не откажешь в эрудиции. К.А. Крылов неплохо изложил здесь жизненный и научный путь Саида, в особенности его двойственное мироощущение как арабского беженца с Ближнего Востока и американского гражданина, отношение к арабо-израильскому конфликту и палестинскому движению сопротивления. Серьезных ошибок в этой части работы не так уж много. Конечно, не стоило путать историка Лари Вульфа, написавшего «Изобретая Восточную Европу», с плодовитым автором фэнтези Лари Нивеном. Есть ошибки в определении некоторых имен и ближневосточных реалий, например, движения «Фатах»[101]. Намного больше раздражает странный, по-журналистски бойкий, но мало членораздельный стиль послесловия в стиле Сорокина или Пелевина. Понятно, у каждого свои литературные вкусы, но какое отношение все это имеет к Саиду и его книге? Сам очерк, который Крылов назвал «Итоги Саида: жизнь и книга», открывает гневная филиппика против слинявшей на «гнилой Запад» низкопоклоннической российской интеллигенции. Говоря про интеллектуализм Саида, он вдруг вспоминает какую-то неприятную для себя ассоциацию и пишет буквально следующее:
«“Интеллектуал”. Импортное словцо замаячило в умах “дорогих россиян” в начале девяностых, когда остатки советской интеллигенции кинулись, как крысы, бежать из потерпевшего крах сословия и искать себе новое место. “Интеллектуал” в ту пору звучало почти так же солидно, как “брокер”, и много обещало, например, хлебное место в каком-нибудь think-tank’e. Получилось по-другому: те, кто успел пробиться на относительно умственную работу (в пиар или “политтехнологи”), быстренько открестились от менее удачливых собратьев. Словцо же “интеллектуал” потеряло в рейтинге, зачахло и в конце концов сдохло от первой же шутки: злоязычный Виктор Пелевин в очередном романе написал, как десять тысяч советских интеллигентов целовали зад красному дракону, но втайне мечтали о зеленой жабе, которая, по слухам, платит за то же самое в тысячу раз больше. И зеленая жаба пришла, но выяснилось, что ей не нужны десять тысяч целовальников, а нужны три специалиста по глубокому минету – которые теперь и называются этим самым словом на “И”. На исторической родине зеленой жабы понятие “интеллектуал” подразумевает нечто прямо противоположное. Как правило, это высокоавторитетный (а иногда и высокопоставленный) нонконформист, добившийся признания в какой-нибудь области отвлеченного знания, или, как стало модно говорить после Бурдье, “обладающий значительным символическим капиталом”…»[102].
Крылов вообще проявляет какой-то повышенный интерес к теме секса, зачем-то приплетая к Саиду, кроме Пелевина, набоковскую Лолиту и этнологические опыты со свободной любовью на Самоа американки Маргарет Мид. Чуть ли не главным символом порабощенного колонизаторами и востоковедами Ориента он сделал брошенную им в добычу женщину Востока, «ждущую, чтобы ее соблазнили, похитили и изнасиловали»[103]. Попутно он обругал феминисток, которые мне, например, тоже не нравятся, но не имеют никакого отношения к ориентализму, как и не замеченные Саидом, но дорогие автору послесловия Блаватская с Гурджиевым. В результате у Крылова получилось нетрадиционное прочтение «Ориентализма» в духе солдата с кирпичом из старого советского анекдота или бабника и утописта Семеныча из «Москвы – Петушков», замечавшего во всемирной истории лишь ее альковную сторону. Крылов, несомненно, «продвинут» в вопросах глубокого минета и других сексуальных ухищрений, разбираясь в них куда больше, чем, скажем в арабской орфографии. Никто не тянул его за руку. Приводить арабские эквиваленты имен и названий политических организаций не было никакой необходимости, но он их привел, только забыл, что по-арабски буквы пишутся не слева направо, а справа налево и к тому же связываются друг с другом, а не пишутся в отдельно стоящей позиции. В результате получился какой-то новояз, точнее новопис, к сожалению, непонятный самим арабам!
Кроме интереса автора послесловия к амурным делам и арабскому алфавиту в глаза бросается его нелюбовь к интеллигентским постмодернистским изыскам, что видно уже из приведенной выше цитаты, в которой он походя обругал язык и стиль, введенные в гуманитарные науки с легкой руки Пьера Бурдье. В других своих статьях, например, в «Русских ответах» 2006 г., Крылов не устает изобличать «пустословие» постмодернистов.
Приведу из нее один яркий отрывок в стиле только что процитированного лирического отступления: «Интеллектуальная жизнь нашей газоспасаемой Эрефии разнообразием не балует. Если честно, она всё больше напоминает захолустный колхозный рыночек семидесятых каких-нибудь годов. Под выцветшими тентами кемарят две бабуси, карауля связки переводного и домашние закатки с несвежим психоанализом… угрюмый мужик с ведром мочёного постмодерна… какая-то замученная жизнью тётка, напялившая, несмотря на жару, фофудью и вязаный катехон, протирает подолом русскую религиозную философию… у самого входа трётся потертого вида хмырь, он толкает кой-чё привозное, “до лягальной дискурсы недопущённое”… В общем, уныние»[104]. Все это звучит тем более странно, что разбираемый Крыловым Саид постмодернистской мовью как раз увлекался, Бурдье и Фуко почитывал, возведя сам ориентализм в ранг «лягальной дискурсы». Но Саида Крылов не ругает, а хвалит.
Чем же пленил его арабо-американский интеллектуал? В «Ориентализме» Саида он увидел руководство к действию у «нас… на огромном и страшном Востоке Европы». Саму Россию в своем послесловии Крылов не называет, ограничившись намеком на «область мира» «к северу от Иерусалима, к востоку от Польши». Современная история и недавнее прошлое России и родины Саида, согласно Крылову, обнаруживают немало сходства. Обе они – жертвы грубого насилия Запада, не желающего знать о них правды и не позволяющего им говорить ее самим. Поэтому запоздалый русский перевод «Ориентализма», по его мнению, «подоспел вовремя: не столько как интересное интеллектуальное упражнение, сколько как образец рассуждения о проблемах, касающихся нас больше, чем нам хотелось бы думать»[105]. Иными словами, Крылов увидел в концепции Саида программу действий, которая может помочь России освободиться от политического и идеологического засилья США, поработивших страну при помощи проамерикански настроенной правящей верхушки и холуйской прозападной интеллигенции.