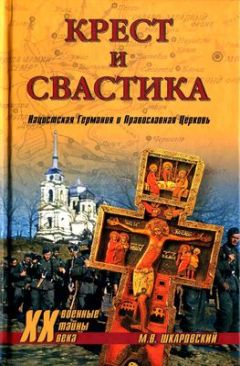Сергей Фирсов - Русская Церковь накануне перемен (конец 1890-х – 1918 гг.)
Охранительные принципы разделялись многими церковными иерархами вовсе не в силу их «реакционности», а преимущественно потому, что представить раздельное существование Православной Церкви и государства в России в те времена можно было только теоретически. Надежда на Собор, таким образом, не мешала его сторонникам надеяться на ослабление государственного обруча, давно сковывавшего Церковь. Их надежды, как показало будущее, оказались столь же наивны, сколь и желание лидера партии кадетов П. Н. Милюкова, увидеть «свободную Церковь в свободном государстве», реализовав на практике известную формулу знаменитого политического деятеля Италии XIX века графа К. Б. Кавура (Chiesa libera nel stato libero).
Впрочем, нельзя не согласиться с Милюковым, когда он пишет: «Факты окостенения веры и злоупотребления церковного управления были настолько очевидны для всех, что в более умеренной форме эти взгляды [согласно которым для Церкви жизненно необходимы самоуправление и свобода. – С. Ф.] проникали и в среду самих служителей Церкви, а через них и в консервативные круги общества»[75]. Отклики на эти явления появлялись задолго до революции 1905 года, еще в XIX столетии.
Революция содействовала актуализации вопроса о реформах. Все более очевидной становилась ненормальность петровской модели церковного устройства. Верховный покровитель Православной Церкви в России – император Николай II – должен был дать ответ, хочет ли он проводить реформы, или же считает синодальную систему по-прежнему удовлетворительной. Пытаясь разрешить запутанный вопрос церковно-государственных отношений, глубоко религиозный государь ни в коей мере не должен был забывать и о своей роли верховного защитника веры. Именно поэтому представляется необходимым, поднимая вопрос о положении Православной Церкви в Российской империи, остановиться на кратком анализе личности последнего самодержца и его отношений с православной иерархией.
§ 2. Император Николай II как православный государь
(к вопросу о религиозных взглядах и религиозном восприятии самодержца)
Несомненно, что последний российский самодержец был искренне верующим православным христианином, смотревшим на свою политическую деятельность как на религиозное служение. Практически все, кто близко соприкасался с императором, отмечали этот факт как очевидный. Он чувствовал себя ответственным за врученную ему Провидением страну, хотя трезво понимал, что для управления ею недостаточно подготовлен. «Сандро, что я буду делать! – воскликнул он после кончины Александра III, обращаясь к двоюродному брату великому князю Александру Михайловичу. – Что будет теперь с Россией? Я еще не подготовлен быть царем! Я не могу управлять империей»[76]. Вспоминая эту сцену, великий князь, впрочем, отдавал должное нравственным свойствам характера своего самодержавного кузена. Однако Александр Михайлович подчеркивал, что Николай обладал всеми качествами, которые были ценны для простого гражданина, но являлись роковыми для монарха: «Он никогда не мог понять, что правитель страны должен подавить в себе чисто человеческие чувства»[77].
Как бы мы ни относились к мнению великого князя, необходимо подчеркнуть, что убежденность в религиозном характере своей миссии заставляла императора «превозмогать себя». Царь всегда необыкновенно серьезно относился к своему помазанничеству, пытаясь быть государем всех подданных и не желая связывать себя с каким-либо одним сословием или группой лиц. Именно по этой причине он так не любил и всячески стремился преодолеть «средостение», существовавшее между самодержцем и «простым народом». Эту стену составляли бюрократия и интеллигенция. Убежденный в глубокой любви «простого народа», государь полагал, что вся крамола – следствие пропаганды властолюбивой интеллигенции, которая стремится сменить уже достигшую своих целей бюрократию. О стремлении Николая II разрушить «средостение» и приблизиться к народу писал князь Н. Д. Жевахов – товарищ последнего обер-прокурора Святейшего Синода. По словам генерала А. А. Мосолова, многие годы проведшего при дворе, «средостение император ощущал, но в душе отрицал его»[78].
Это значило – Николай II утешал себя мыслью, что самодержавие, основанное на религиозном фундаменте, не может поколебаться до той поры, пока сохраняется вера в государя как в помазанника, сердце которого – в руках Бога. Нельзя не признать Николая II человеком религиозно цельным (поскольку религиозность всегда есть нечто целостное, по словам философа И. А. Ильина, имеющее способность внутренне объединять человека, придавать ему духовную «тотальность»). «Религиозность есть жизнь, целостная жизнь, и притом творческая, жизнь. Она есть новая реальность, состоявшаяся в человеческом мире для того, чтобы творчески вложиться в остальной мир»[79]. Николай II вполне может быть назван религиозно «тотальным» человеком, убежденном в своем особом призвании. Государственные деятели николаевского царствования, даже считавшие самодержца слабохарактерным, не могли обойти вниманием эту сторону его характера: «Бог и Я»[80].
Удивительно, но и революционные потрясения начала XX столетия не переубедили Николая II в преданности ему простого народа. Революция производила на него меньшее впечатление, чем подготовляемые властями парадные встречи при поездках по стране или же инспирируемые (большей частью) верноподданнические адреса на его имя. Об опасности доверяться публичным проявлениям народной любви писал царю даже Л. Н. Толстой: «Вас, вероятно, приводит в заблуждение о любви народа к самодержавию и его представителю то, что, везде, при встречах вас в Москве и других городах, толпы народа с криками „ура“ бегут за вами. Не верьте тому, чтобы это было выражением преданности вам, – это толпа любопытных, которая побежит точно так же за всяким непривычным зрелищем»[81]. Толстой писал и о переодетой полиции, и о сгоняемых крестьянах, стоявших позади войск при проезде царского поезда вдоль железной дороги.
Если великого моралиста можно обвинить в предвзятости, то генерала А. А. Киреева, преданного самодержавному принципу и близкого к императорской фамилии, – нельзя. В 1904 г. он заносит в дневник рассказ о том, как проезжавший мимо домика Петра Великого извозчик без стеснения заметил: «„Вот, барин, кабы нам теперь такого царя, а то теперешний дурик (Не дурак и не дурачок). Где ему справиться“. Это ужасный симптом», – заключил генерал[82].
Разумеется, были и иные примеры, противоположные приведенным. Достаточно упомянуть о торжествах канонизации летом 1903 г., проходивших в Сарове. «Желание войти в непосредственную близость с народом помимо посредников подтолкнуло государя на решение присутствовать на Саровских торжествах. Туда собирался со всей России боголюбивый православный народ»[83]. В Саров со всех концов России собралось до 150 тысяч паломников. «Толпа была настроена фанатично и с особой преданностью царю», – вспоминал В. Г. Короленко, очевидно не симпатизировавший императору[84]. Но настроение толпы легко могло измениться: оно зависело от обстоятельств места и времени.
Прошло менее двух лет, и Первая революция показала примеры удивительной метаморфозы «простого народа» – от внешнего благочестия до неприкрытого кощунства. Уже упоминавшийся генерал Киреев с тревогой заносил в дневник факты «раскрещивания» мужиков, задаваясь вопросом, куда в прошедшие революционные годы делась их религиозность. «Русский народ несомненно религиозен, – писал Киреев, – но когда он видит, что Церковь дает ему камень вместо хлеба, да требует от него формы, „грибков“, читает непонятные простонародью молитвы, когда ему рассказывают про фантастические чудеса, все это торжественно рухнет перед первой умелой проверкой, перед первой иронией, даже грубо нахальной, он переходит или к другой вере (Толстой, Редсток), говорящей его сердцу, или делается снова зверем. Посмотрите, как христианская хрупкая, тоненькая оболочка легко спадает с наших мужиков»[85].
То, что замечал знавший и любивший Церковь Киреев, разумеется, не могло проходить мимо императора. Однако, воспринимая негативные явления революционного времени как «наносные», «временные» и «случайные», Николай II избегал обобщений, свидетельствующих о набиравшем силу процессе десакрализации самодержавия и его носителя. Причина этого ясна: «Вера государя несомненно поддерживалась и укреплялась привитым с детства понятием, что русский царь – помазанник Божий. Ослабление религиозного чувства, таким образом, было бы равносильно развенчанию собственного положения»[86].