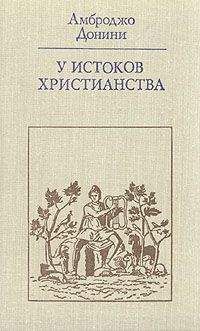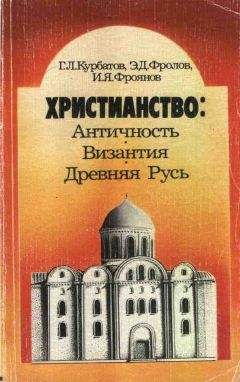Владимир Вейдле - Умирание искусства
Начинаются они с исчерпывания или омертвения всевозможных строфических форм, которые можно сравнить с «ордерами» классической архитектуры и композиционными формами европейской музыки. Омертвение это наблюдалось уже давно в различных странах, раньше всего, по-видимому, в Италии, где за весь XIX век не было написано ничего живого в терцинах или октавах, в форме канцоны или сонета несмотря на то, или как раз потому, что любой итальянец, окончивший среднюю школу, умеет написать и при случае пишет сонет, а один известный санскритолог не так давно перевел «Махабгхарату» безукоризненными (как выражаются критики) октавами. Опередила Италия другие страны, разумеется, потому, что раньше и полнее других использовала особенно отвечающие ее поэтическому языку сочетания стихов, но и в Англии сейчас никто не пытается вторично — после Китса – возродить спенсерову строфу, во Франции умирает так долго державшийся здесь, гальванизированный Малларме сонет, и точно так же Валери (как вслед за ним испанец Гильен) лишь на минуту оживил большую строфу XVII века. В русской литературе, как и в немецкой, сколько-нибудь сложные строфические формы особенной роли не играли никогда; Пушкин с мудрой осторожностью подошел к терцинам, октавам, сонету и создал собственную строфу, слишком сросшуюся с «Онегиным», чтобы стать воспроизводимой и нейтральной. Как многое другое, все формы строфы, известные европейской и даже азиатской литературе, были заимствованы, использованы и исчерпаны у нас после сравнительно немногих и скромных предварительных попыток за какие-нибудь десять или пятнадцать лет перед войной, когда в необыкновенном изобилии появились вдруг венки сонетов, сестины, рондели и рондо. Кузмин специализировался на газелях, Сологуб — на триолетах, пока Брюсов не опубликовал, наконец, универсальных и устрашающих своих «Опытов», после чего во всей русской поэзии, хоть шаром покати, не сыщешь ни одного не только хромого или хвостатого, но и самого обыкновенного сонета.
Нет спору, поэзия обходилась и без твердых строфических форм, однако острое недоверие к ним вряд ли может почитаться признаком поэтического здоровья. Еще хуже, когда оно переходит, как это за последнее время наблюдается везде, от строфических форм к метрическим, когда приедаются традиционные в данной литературе стихотворные размеры, а затем и традиционное стихосложение вообще, вся метрика, т. е. установленная закономерность ритма, которую приходится сравнить уже не с дорическим или коринфским ордером и не с сонатой или фугой, а со всей веками складывающейся «грамматикой» архитектуры или музыки. В каждой литературе существуют «большие», главные, основные для не стихотворные размеры; их исчерпанность, стертость ощущается всего ясней. Французский александриец, как не обновляли его «Гюго с товарищами, друзья натуры», как после них не старались изощрить его узоры, утончить его музыку (да и как раз в результате всех этих усилий), стал стихом академическим, музейным, одновременно всем доступным и недоступным никому. Точно так же и наш четырехстопный ямб (а в несколько меньшей мере и ямб вообще) стал легок, дешев, теперь и вправду «им пишет всякой», и понадобилось страшное напряжение, все более затрудненное переосмысливание богатых, но уже использованных его ритмов, чтобы Блок, Белый, Ходасевич могли из него извлечь «Возмездие», «Первое свидание», «Соррентинские фотографии».
Можно, разумеется, от основных размеров обратиться к другим,— например, у французов к нечетным, у нас к трёхдольным, — но приедаются они еще скорее, и возможности их от природы ограничены. Можно придумать новые размеры или комбинации размеров в пределах данного стихосложения, но и тут возможности не безграничны и выдумки хватит не навсегда. Можно пытаться, наконец, поскольку это позволяет язык, отойти от самого стихосложения, к которому, казалось, он обязывал до той поры, и обратиться к тому, что французы назвали свободным стихом или, при гораздо большей врожденной свободе, вытекающей из строения русского (как и немецкого) языка, к подражанию античным размерам, к нашему «паузнику», т. е. тоническому стиху, считающему только ударения, а не слоги; или еще к силлабическому, кантемировскому стиху; надобно удивляться, что у нас никто не бросил еще на игорный стол этот последний козырь стихотворца.
Если последовательное обновление стиха не удалось, приходится творчески коверкать, выразительно ломать его готовые, многократно использованные формы. Это делали во Франции Лафарг и Верлен, а в России всех глубже, всех острее — Анненский. Если больше нельзя ни вывихнуть, ни переделать стих, остается переплавить его в прозу. Недаром «стихотворение в прозе» — создание девятнадцатого века, как и то особое, по существу поэтическое, введение прозаизмов в стих, на котором основана, например, поэзия Броунинга. Многие виды свободного стиха остаются более жестко, чем обычно, ритмизированной прозой (таковы ораторские восклицания Уитмэна), и самая могущественная попытка, та, что совершена Клоделем, — вырвать у прозы новый, живой и животворный стих, — окончилась только личной победой и не допускает подражания.
На собственно поэтическую прозу никаких особых надежд возлагать нельзя; удачи Бодлера, Рембо, очень немногих других — исключения и чудеса, а провал Тургенева вполне закономерен. Самая возможность стихотворения в прозе возникает лишь при таком состоянии литературного языка, какое для России, например, еще не наступило и которое особенно опасно для поэзии. И все-таки огромный успех Тагора накануне войны объясняется только тем, что он стал известен в прозаическом английском переводе; стихотворец Тагор такого успеха никогда бы не имел. Стихи утомляют, стихи надоели, стихами никого не удивишь, стихов никому не нужно, «on a touche au vers». Малларме был прав, когда этими испуганными словами начинал больше сорока лет тому назад свою оксфордскую лекцию. С тех пор как стих стал осознан как орудие, которым лишь «пользуется» поэт, явилось искушение и возможность обойтись без этого орудия. Уже сто лет назад Шелли видел, что «каждый великий поэт должен неизбежно обновлять стихосложение своих предшественников». Именно это знание поэта о стихе, это противопоставление ему себя принесло огромный вред и стиху, и самому поэту. Это не значит, конечно, что от этого знания можно отречься, объявить его несуществующим. Утрата стиха есть утрата стиля, и как раз утраченный стиль мы начинаем отвлеченно понимать и «применять». Вся судорожная работа над стихом, предсказанная фразой Шелли, была как бы бегством от его судьбы, бегством, которое лишь ускорило распад, переутончило стиховую ткань, отделило ее от жизни, от живого языка, от человека. Должно быть, верно сказал ирландский поэт Синг, что стих должен опуститься, огрубеть, для того чтобы снова сделаться человечным: «before verse can be human again, it must learn to be brutal». Но это уже не дело одного стиха. В этих словах затронута судьба поэзии уже независимо от того, пользуется ли она прозой или стихами, связана ли с какими-либо средствами, завещанными ей преданием, или, худо ли, хорошо ли, умеет обойтись без них.
«Поэзия есть Бог в святых мечтах земли». — «Это чтобы стих-с, то это существенный вздор-с. Рассудите сами, кто же на свете в рифму говорит?» Так размечтавшемуся Жуковскому, во всеоружии здравого смысла, отвечает Смердяков. Нельзя отказать Смердякову в одном преимуществе: упоминая о рифме и стихе, он тем самым связывает поэзию с воплощением ее в слове, тогда как в прекрасном по замыслу своему определении Жуковского поэзия испаряется в мечту и грозит превратиться в поэтическую мечтательность. Романтики, особенно того направления, к которому примыкал Жуковский, слишком легко подменяли поэзию порывом к ней и предпочитали «туманный идеал» осуществленному искусству. Против этой подмены, приведшей в конце концов к насаждению ложной поэтичности, к тому, что Флобер называл «pouaisie», возражать законно. Остается, однако, бесконечно более важное разделение времен и, быть может, раздвоение человечества: там, где Жуковский видит Бога, Смердяков усматривает вздор.
Смердяковы приуготовлены были «веком просвещения» (недаром и в Феодоре Павловиче есть нечто галантно-вольтерианское), напророчены Баратынским:
Исчезнули при свете просвещенья
Поэзии ребяческие сны,
предуказаны такими неизбежными в «век прогресса» размышлениями, как те, что находим, например, сто лет назад У англичанина Пикока: «Поэт в наше время — полуварвар в цивилизованном обществе. Он живет в прошлом… В какой бы мере ни уделяли внимание поэзии, это всегда заставляет пренебрегать какой-нибудь отраслью полезных знаний, и прискорбно видеть, как умы, способные на лучшее, растрачивают свои силы в этой пустой и бесцельной забаве. Поэзия была той духовной трещоткой, что пробуждала разум в младенческие времена общественного развития; но для зрелого ума принимать всерьез эти детские игрушки столь же бессмысленно, как тереть десны костяным кольцом или хныкать, если приходится засыпать без погремушки». Совершенно такие же воззрения, как известно, были распространены в Европе и господствовали в России во второй половине минувшего столетия. Они иногда высказываются и теперь (или проводятся в жизнь молчаливо, как у большевиков, дабы не испугать европейских снобов и эстетов), прикрываясь по-прежнему уважением к науке, приверженностью к «передовым» идеям и непоколебимой верой в таблицу умножения. Достоевский, придав им самую простую, но и самую точную форму и приписав их Смердякову, раз навсегда обнажил истинный их корень и указал наиболее отвечающее им человеческое лицо.