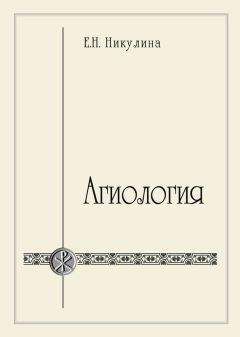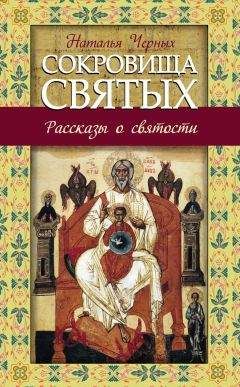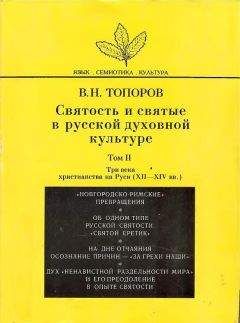Александр Мень - История религии. В поисках пути, истины и жизни. Том 6. На пороге Нового Завета. От эпохи Александра Македонского до проповеди Иоанна Крестителя
Вергилий страстно мечтал о том времени, когда весь мир обновится. В восточных пророчествах и книгах Сивилл он черпал уверенность, что жестокие века идут на убыль. Завершение «мирового года» уже не страшило его, как страшило оно Лукреция. Поэт жил мыслью о том, что близится возвращение «золотого века» [8].
Событие в Брундизии побудило Вергилия выступить в роли провидца. В четвертой эклоге, написанной в 40 году, он возвестил о таинственном Младенце, рождение которого знаменует начало царства Сатурна, то есть благословенной и мирной жизни на земле.
Кто же этот Младенец? Октавиан? Новый Дионис? Неведомое восточное божество? Никто из комментаторов не смог до сих пор дать ответ на эти вопросы. Загадка четвертой эклоги осталась нерешенной. Одно лишь бесспорно: пророчество Вергилия связано с учением о круговороте времен, с древними прорицаниями Сивиллы.
Круг последний настал по вещанью пророчицы Кумской.
Сызнова ныне времен начинается строй величавый,
Дева грядет к нам опять, грядет Сатурново царство,
Снова с высоких небес посылается новое племя [9].
Среди людей воцарится наконец вожделенное «согласие», сама природа станет иной, укротятся хищники, исчезнут ядовитые гады, земля будет милостивой и плодородной.
Правда, после этого Вергилий предвидит повторение прежних веков: новых аргонавтов и ахиллов, новые эпохи упадка. Но все же поразительно в эклоге само предчувствие эры спасения. Еще Отцы Церкви обращали внимание на то, что оно охватило поэта перед самым явлением Христа [10]. И действительно, можно ли считать случайным, что этот «наиболее христианский из язычников» жил на рубеже Нового Завета? Всматриваясь в грядущее, Вергилий невольно заговорил языком Исайи и воистину явился пророком античного мира.
Человечество томилось перед пришествием Избавителя. Но если одни люди ждали в Его лице вестника иного мира, то другие были готовы искать спасения у земного повелителя и бога.
Такие фигуры, как Цезарь, Август или Наполеон, всегда становились объектами идолопоклонства, принимавшего формы массового психоза. За них были готовы отдать жизнь и с их именем на устах шли на гибель. Секрет гипнотического влияния вождей кроется не только в их умении владеть толпой, в их неистощимой энергии и обаянии. Они покоряли и тем, что в них как бы воплощалась мощь стихийного, дочеловеческого мира. Они шли к своей цели, действуя расточительно, как природа, легко переступая через тысячи жизней, — и побеждали. Эта способность на деле стать по ту сторону добра и зла и приносить в жертву целые народы вызывала трепет, смешанный с обожанием, и породила демоническую мистику абсолютизма. Здесь источник культа авторитарных вождей всех времен. Для них массы были лишь средством, но именно эти массы, влекомые первобытным инстинктом, шли за ними, словно послушное стадо.
Октавиан победил потому, что его желали и призывали.
13 января 27 года он предстал перед сенатом — приземистый, рыжеватый, с утомленным, немного женственным лицом. Мститель за Цезаря, своего «отца», он объявил миссию, возложенную на него Римом, оконченной.
Девятнадцатилетним юношей начал Октавиан борьбу с «врагами отечества», испытал все превратности гражданских войн, сломил Антония, хотевшего подчинить Рим Востоку, усмирил и варваров, провел дороги и акведуки. Теперь ему уже тридцать шесть; он сделал свое дело, и пора подвести итог. «Сенат и народ римский» получили из его рук обновленное государство.
Присутствующие догадывались, что перед ними разыгрывают спектакль, и с готовностью приняли в нем участие. Им было известно, что Октавиан прочно опирается на армию и пролетарские массы. Еще не забылась учиненная им кровавая резня. Сенаторы знали холодную беспощадность этого человека, такого спокойного на вид. Не он ли по одному лишь подозрению велел пытать претора Галлия, а потом своими руками его умертвил, предварительно выколов ему глаза?..
В то же время была опасность, что уход Октавиана вызовет новую лавину революций и террора, которые уже почти столетие истощали Рим. Люди бесконечно устали и бредили миром. Поэтому сенат не желал и слышать об удалении Октавиана от дел и умолял его оставить за собой власть. Было предложено наречь его новым Ромулом, но вскоре остановились на титуле Август, что значит «священный» или «возвеличенный».
С этого момента начинается странное правление, которое, оставаясь по внешности республиканским, на деле явится абсолютной монархией.
Помня о заговоре 44 года, преемник Цезаря станет играть в сенате роль демократического вождя и терпеливо выслушивать чужие мнения. Он будет устраивать бутафорские выборы, получать пышные титулы «цезаря», «трибуна», «принцепса», «отца отечества». Все обретет вполне законный вид: голосование, конституция, отчеты, народные собрания. Между тем нити власти одна за другой будут стягиваться в единой крепкой руке…
Октавиан мало походил на блестящего и страстного авантюриста Юлия. Неизменная основа его стратегии — осторожность. Он всегда действовал как рыбак, который боится порвать сети с уловом. Его любимыми изречениями были: «Спеши не торопясь», «Лучше сделать поудачней, чем затеять побыстрей». По натуре сдержанный и немногословный, Август считал безрассудство главным пороком политика; ему нравилось выжидать, подсчитывать, взвешивать. Даже свои любовные связи он использовал в политических целях.
Гений осмотрительности, цезарь успевал при помощи своих тайных агентов вовремя раскрывать все антиправительственные заговоры. С тех пор вездесущие доносчики стали необходимым орудием римских властей. Октавиан приказал разогнать большинство коллегий и клубов, боясь, чтобы там не свили себе гнездо противники режима. В сенат он подбирал людей состоятельных и знатных — преимущественно тех, кто был ему обязан, — и постепенно превратил его в послушное орудие своей воли. Но и после этого цезарь никогда не позволял себе расслабиться; хорошо владея даром слова, он, однако, каждое свое выступление готовил и писал заранее.
Только в двух случаях император отводил душу: когда играл в кости и когда присутствовал на гладиаторских боях. В отличие от Юлия Цезаря, который в цирке продолжал писать и принимать доклады, Октавиан целиком отдавался зрелищу. Впрочем, и здесь, видимо, был расчет: цезарю хотелось, чтобы все видели, насколько его вкусы совпадают с народными. Кроме того, на досуге он занимался литературой и коллекционировал дорогие вазы. В дни террора на стенах домов нередко появлялась эпиграмма: «Отец мой ростовщик, а сам я вазовщик». Но сейчас уже никто не решался на такие выходки. Страна покорно лежала у его ног.
Как же случилось, что республика, не пожелавшая увенчать короной Юлия Цезаря, теперь дала обмануть себя и не заметила своего превращения в авторитарную монархию?
К торжественным дням, когда сенат провозгласил его Августом, Октавиан пришел после долгой борьбы, в которой судьба будущего властителя полумира не раз висела на волоске.
Летом 40 года, едва лишь смолкли ликования по поводу Брундизийского мира, на Сирию обрушились парфяне. Закованные в броню азиатские всадники хлынули вдоль побережья на юг, обращая в бегство римские гарнизоны. Этим решил воспользоваться хасмонейский князь Антигон, сын низложенного Помпеем Аристобула II. С того времени, когда ему пришлось идти в качестве пленника в триумфальном параде Помпея, Антигон возненавидел римлян и их ставленников Фазаэля и Ирода. Теперь у Хасмонея появилась возможность вернуть себе корону предков.
Парфянский сатрап обещал ему помощь, большая часть народа перешла на сторону князя, и вскоре он смог занять Иерусалим. Там он провозгласил себя царем, назвавшись Маттафией в память о славном родоначальнике Хасмонеев. По примеру своих отцов Антигон присоединил к венцу монарха тиару первосвященника, а старика Гиркана II, утвержденного прежде Помпеем, парфяне увезли в Вавилон. Фазаэль вступил с ними в переговоры, но был предательски захвачен в плен. В тюрьме он покончил жизнь самоубийством. Перед смертью Фазаэля обрадовала весть, что его брат Ирод успел скрыться во время сумятицы. По совету своей невесты Мариамны, внучки Гиркана II, Ирод даже не пытался договариваться с парфянами. Отправив Мариамну и родных в безопасное место, он с оружием в руках пробил себе дорогу в Набатею, откуда поехал в Египет, а из Египта — в Рим, надеясь, что не все еще потеряно.
И для Антония, и для Октавиана такой оборот дела в Палестине был чувствительным ударом. Оба понимали, насколько опасна близость парфянских войск, и поэтому вынуждены были действовать заодно.
Ирода они встретили в Риме как лучшего друга. На специальном заседании его представили сенату, и по предложению Антония он был объявлен царем Иудеи. В честь этого события была принесена жертва на Капитолии, и новоявленный монарх принял участие в языческой церемонии.