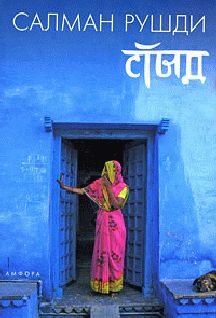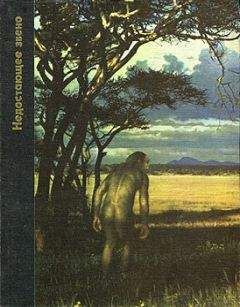Бенджамин Килборн - Исчезающие люди. Стыд и внешний облик
Часто можно услышать о том, что одна из главных функций аналитической работы – посредством лечения разговором и свободных ассоциаций помочь пациенту репрезентировать свои мысли и чувства как перед собой, так и перед аналитиком. С помощью образов Гестер Принн и преподобного Димсдейла мы имеем возможность вновь рассмотреть, что значит «репрезентация», как действует символизирующая функция и как они связаны с травмой, конфликтами стыда, идеализацией, мазохизмом.
Готорн предполагает, что на теле Димсдейла выжжена алая буква. Чему может научить нас, аналитиков, то различие, которое он делает между буквой Гестер Прин, столь красиво вышитой на ее платье, и буквой Димсдейла, демонстрирующей свою смертоносную силу в заключительных сценах романа?
Стыд Гестер зрим, одно из его проявлений – узы, соединяющие ее с дочерью Перл. Димсдейл же может проявить свой стыд лишь в собственной «невидимостьи» и отсутствии подлинных отношений с кем-либо. Маска, которую он носит – заботливого и почитаемого священника, – лишь глубже прячет его отчаяние и стыд. Гестер сумела экспрессивно использовать знаки стыда (вышитую «А») и черпать из них ощущение силы. Димсдейл, напротив, хоть и знает о своем стыде, но миру может явить лишь маску, которая воплощает и стыд, и неспособность экспрессивно его использовать. Его чувство, о котором никто не должен знать, и то, о чем люди не должны знать, неизбежно обрекают его на изоляцию и, в итоге, на смерть. Иными словами, в свете контраста между Гестер и Димсдейлом можно увидеть, что репрезентация ведет ее к правде и силе, а его – к фальши, слабости и страданию.
Стыд находится на границе между «я» и другими. Если он непереносим, возникает огромная тревога о том, что «сокровенную суть» увидят «неприкрытой». Тревога эта ведет к тайнам, обману и лжи[345]. Центральный конфликт стыда – между жаждой быть признанным и ужасом быть увиденным (Kilbome, 2002)[346] – коренится в неспособности установить живую связь с кем-либо, соединенной со стыдом из-за всемогущих желаний, пробуждаемых страхом никогда не быть увиденным или обнаруженным[347]. Иногда тревога, обусловленная необходимостью выдерживать эти страхи и конфликты стыда/разоблачения или конфронтацией с ними, становится непреодолимой. В таких случаях индивид испытывает трудности в формировании связей с другими людьми, и критическая задача анализа состоит в исследовании конфликтов стыда.
Маска Димсдейла репрезентирует отчаяние из-за неспособности соединиться с другим человеческим существом, а также глубокий стыд и отчаяние из-за наличия такого фундаментального дефекта или проступка. В этом смысле его маска, или персона, конечно, порождает психический образ, репрезентирует, символически выражает. Однако выражает она именно то, что Димсдейл очень боится показать. К тому же маски лишают своих носителей реальности. Вышитая «А» Гестер, так же, как ее Перл, является частью ее существа. Персона Димсдейла, напротив, душит его идентичность, выдавливает из его жизни всякое ощущение подлинности и реальности.
Аналитики знакомы с французской традицией, в которой «ментализируемость», процесс «ментализации», играет гораздо большую роль, чем в американской традиции[348]. Современные авторы знакомы также с подходом Биона к нерепрезентируемому, которое он называет «бета-элементами». Однако в аналитической литературе часто не уделяется должного внимания тому, в какой степени нерепрезентируемое может со стыдом переживаться как единственная реальность. Это создает огромные препятствия в аналитической работе. Под «нерепрезентируемым» я здесь понимаю то, что невозможно вызвать в представлении, осмыслить, вообразить, на что невозможно отреагировать.
В применении к Димсдейлу об этом можно сказать так: наиболее реальным для него (поскольку наиболее страшит) является его бесчестье, стыд и изоляция; он сам приводит себя к исходу, которого так стремится избежать посредством идеализации и опоры на восприятие его другими (его паствой). Димсдейл боится быть разоблаченным в качестве отца Перл, потому что это опозорило бы его и показало бы пустоту его претензий на почтение и уважение прихожан. Поэтому то, что он в состоянии «репрезентировать», или «символизировать», неизбежно оставляет скрытой суть его идентичности. И Димсдейл жаждет правды, но не способен ее обрести. «Говори правду! Говори правду! Говори правду! Не скрывай от людей того, что есть в тебе, если и не дурного, то хоть такого, за чем может скрываться дурное!»[349]
Мысль, которую так страстно выразил Готорн, состоит в следующем: то, что Димсдейл был неспособен выразить, открыть, репрезентировать, вызвать в представлении (и что породило рану в форме буквы «А»)[350], смогло убить его, будучи выжжено на его теле. Это не значит, что Димсдейл не сознает свой стыд и свое страдание. Скорее убеждение Димсдейла, что он обречен страдать в одиночестве, лишает его жизнь реальности, истощает ее изнутри, оставляя его неспособным выразить себя подлинного. Получается, что единственная его реальность – та, что показана в конце книги: человек, умирающий от раны, которую он не может не таить, человек, чьи чувства настолько перевешивают все, что он мог бы выразить в словах или символах, что внешний мир съеживается для него до нереальности, а чувства становятся неким видом невообразимой гиперреальности. Ему остаются невыразимые одиночество и страдание.
Подобно Эдипу, Димсдейл, переоценивая собственную силу и недооценивая свои отношения с другими, не способен приемлемым для себя способом выразить свой стыд кому-нибудь: он детерминирован той реальностью (возможно, это единственная его реальность), которую скрывает. Его стыд лишает его всякой надежды быть признанным таким, каков он есть. Более того: всеобщее уважение, восхищение, идеализация окончательно решают его судьбу – он и вообразить не в состоянии, как он мог бы «обозначить» перед другими свои переживания боли и краха и таким образом получить шанс вырваться из своей изоляции, своей фальши[351].
Пастве Димсдейла нужно видеть в нем того, кем он не является. Самоидеализация Димсдейла – отраженная в его идеализации прихожанами – в соединении с невозможностью для него репрезентировать вызывающие стыд чувства, приводит его к внутреннему расколу, отчуждает от самого себя. Страх не соответствовать собственным стандартам и ожиданиям, которые он читает в глазах других, вынуждает Димсдейла ретироваться в «сумеречный» мир обмана, где идентичность – не более чем видимость. Обман становится знаком его стыда, который приходится прятать все более изощренно. Подобно многим нашим склонным к переживанию стыда пациентам, Димсдейл обречен обращаться к идеализации и нагруженным стыдом защитам, чтобы избежать горя, связанного с утратой (среди прочего) идеала «я», – утратой, которая грозит унести с собой оставшуюся часть его существа[352].
Резюмируя, можно сказать, что Димсдейл, идеализируя себя через восприятие своей паствы, решает свою судьбу. Он обрекает себя на нестерпимый стыд и изоляцию. У него, как и у Эдипа, страх быть увиденным иначе, нежели могучим и великолепным, порождает стыд, а стыд ведет к обману, который, в конечном счете, побуждает к идеализации и способствует тому, что связанные со стыдом переживания оказываются невыносимыми.
Если стыд сопряжен с утратой связей с другими людьми, с утратой самой возможности этих связей, то он означает невыносимое одиночество, приводящее индивида к уничтожающему самоосуждению за непригодность жизни в каком-либо человеческом обществе, за своего рода отторжение его социальным организмом, изгнание из человеческой среды. Отсюда – предельная изоляция и трагедия героев Софокла, которые предпочитают умереть, но не принять ожидающее их бесчестье, и которых, казалось, лишь исключительно свободная воля приводит к саморазрушению.
«Алая буква» показывает нам путь к исследованию ряда взаимосвязанных тем, относящихся к динамике стыда, конфликтам стыда и трагизму. Это стыд и идеализация, стыд и ментализация, стыд (символизированный, или ментализированный) как защита и стыд как зеркало (выставление напоказ собственного стыда, заставляющее других испытывать стыд). Это также стыд Эдипа – трагический стыд, или стыд тех, кто, отчаянно пытаясь избежать уготованного им стыда, создают себе репутацию в собственных и чужих глазах, в результате лишая себя всякой надежды быть узнанными. Так они навлекают на себя стыд в его самых уничтожающих формах, который больше не позволяет узнать в них человеческие существа, порождает остракизм и, в конечном счете, убивает. Таким образом, конфликты стыда Димсдейла – вместе с тревогами и страданием, которые они порождают, – фундаментально родственны конфликтам, составляющим суть греческой и вообще, как мне кажется, человеческой трагедии. Сделать эти конфликты более распознаваемыми и вместе с тем менее нестерпимыми – непростая задача анализа.