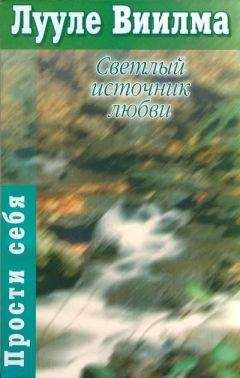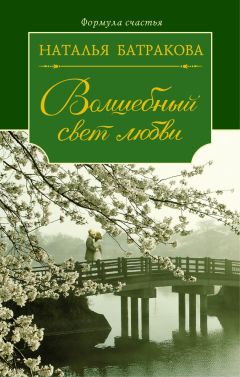Лайонел Корбетт - Священный котел. Психотерапия как духовная практика
Иногда достаточно просто быть рядом и быть открытым, хотя неспособность изменить ситуацию бросает вызов терапевту и включает его внутреннюю критику. Быть эффективным – забота терапевта, а включение в терапию собственных забот создает напряженность, потому что от него требуется спонтанность и подчинение интуиции. Если Эго терапевта считает, что должно взять весь груз на себя, то терапевт, скорее всего, «перегорит». Однако исцеление – это не то, что мы совершаем, оно происходит само. Красноречивее, чем Вирджиния Сатир не скажешь: «Весь терапевтический процесс должен служить цели раскрытия целительного потенциала внутри самого пациента. И пока этот потенциал не раскрыт, ничего не изменится. В итоге глубинные „Я“ терапевта и пациента должны встретиться» (Satir, 1987, p. 19). Мы не можем ответить на вопрос, как это происходит, потому что это не функция Эго. Оно может произойти, а может и не произойти. Мы же должны быть сознательны и готовы, технически компетентны и как можно более открыты. Если парадигма раненого целителя верна, то главная задача терапевта – постоянно осознавать собственную уязвимость, потому что на этом уровне Эго терапевта оказывается очень хрупким, что создает предпосылку для истинной связи и близости с другим человеком. Иначе Эго терапевта превращается в замок, а на другого мы смотрим уже через окно или бойницу.
Другими словами, терапевтическая работа призвана высвободить способность души к исцелению. Мы чувствуем это, когда становимся свидетелями чего-то мощного и необъяснимого, присутствующего во время терапии. В действие вступает нечто, живущее само по себе; когда Самость говорит через нас, результат непредсказуем. Древние сказали бы, что это бог нанес нам визит. Каждый день видишь, как терапия помогает людям, хотя терапевт сам не знает, что он для этого сделал. Некоторые аспекты психологических изменений настолько тонки и неуловимы, настолько бессознательны, что мы не можем их обнаружить и судим о них лишь по их воздействию и результатам.
ЖертваДуховность психотерапевтической практики требует от терапевта отказа от необходимости понимать, что происходит, от желания самоутвердиться за счет работы. Самопожертвование необходимо, если терапевт должен оставаться внутри болезненных отношений, отягощенных негативным переносом. Это самопожертвование заключается в том, чтобы оставаться внутри комнаты, где проходит терапия, час за часом, несмотря на ненависть и гнев, не отвечая, не взрываясь, понимая, что все это необходимо. Справедливо и обратное: если терапевтические отношения положительны, обе стороны друг в друге души не чают, то в жертву надо принести свои приятные социальные, или сексуальные, или профессиональные отношения. И это самопожертвование происходит день за днем, потому что мы чувствуем существование глубокого смысла, ощущаем присутствие другого уровня реальности, понимаем, что все это важнее каждодневных потребностей. Мы не можем точно сказать, что это за новая реальность, потому что ощущаем ее на уровне наших душ и любые слова кажутся не подходящими для описания.
Уильям Джемс указал на очевидную связь между подчинением чужой воле и жертвенностью, утверждая, что «то личное отношение, в каком индивидуум должен находиться к тому, что он признает Божеством… оказывается одновременно состоянием беспомощности и самоотречения» (James, 1958, p. 54 / Джемс, 2014, с. 55). По мнению Юнга, когда мы действительно жертвуем чем-то очень ценным, то этот объект должен отдаваться целиком, как бы уничтожаться (Jung, 1954b, par. 390 / Юнг, 2006, с. 299–303). Это важно иметь в виду, потому что можно отдать что-то таким образом, чтобы это выглядело как жертва, но на самом деле это может быть манипуляцией, способом вызвать чувство долга у другой личности. В этом случае мы не отдаем, а выгадываем что-то для себя. Настоящая жертва – это, наоборот, акт любви и выражение наших убеждений. Юнг утверждает, что, когда мы отказываемся от объекта, к которому привязаны эмоционально, то это становится пожертвованием частички самого себя (там же, par. 397–398 / там же, с. 306–307). В качестве примера он вспоминает приказ Бога Аврааму принести в жертву его сына Исаака (Быт. 22: 1–14). Можно представить, что отец, готовый убить своего сына, убивает и часть себя; и тогда он одновременно и жертвующий, и жертва. Аналогичным образом, если Самость призывает меня принести в жертву часть себя, то Самость, будучи моей глубинной сущность, жертвует частичкой себя. Юнг считает, что Самость хочет, чтобы Эго стало частью этого процесса. Как пишет Эдингер, Самость требует от Эго сознательного самопожертвования (Edinger, 1986, p. 35). Если Эго признает эту необходимость самопожертвования, то бессознательное уже не будет вести себя деструктивно.
Принесение жертвы богу с определенной целью, например для получения власти или выгоды, подразумевает определенный Бого-образ и соответствующее ему богословие. Человеческие и животные жертвы были распространены в древнем мире, и происхождение этой практики можно понимать по-разному. В некоторых традициях считается, что божеству нужно подносить дары, или же работает механизм взаимности: мы богу, а он нам. Иногда жертва может быть формой общения с божеством. Также жертвоприношение может быть чем-то вроде задабривания, замаливания грехов или воспроизведением какого-либо мифического события. Бог иудейской Библии нуждался в крови животных, в то время как в Новом Завете Бог сам пожертвовал собой и своим сыном Иисусом. Христиане воспринимают жертву Иисуса как искупление, дарующее сонастроенность. Этот архетипический и мифологический фон помогает терапевту осознать чувства верующих, которые не понимают, почему праведная жизнь и самопожертвование не избавляют их от страданий. Их разочарование обычно является результатом психологии «кнута и пряника», антропоморфной проекции, в соответствии с которой божество предстает органом, фиксирующим все наши заслуги и проступки.
Подобно всякой духовной практике жертва может использоваться и как механизм защиты. В некоторых случаях личность должна быть принесена в жертву высшей цели – в некоторых учениях даже говорится о поддержании таким образом космического порядка. Как же терапевту отличить отважное самопожертвование от хорошо маскирующегося мазохизма? Если личность продолжает жить в несчастливом браке и говорит терапевту, что «идет на эту жертву ради детей», откуда нам знать, что перед нами: рационализация зависимости или страх перемен? А вот еще более сложная задача: что сказал бы терапевт современному Аврааму, который заявляет, что Бог требует принести в жертву его сына? Кьеркегор (Kierkegaard, 1843 / Кьеркегор, 1993) считал поступок Авраама примером абсолютной веры: Авраам целиком и полностью доверился благостности Бога. Но сегодня мы с подозрением относимся к людям, которые говорят, что Бог требует от них чего-то, потому что таким образом можно рационализировать все, от личной мести до священной войны. История показывает, как, следуя своему представлению о воле Бога, истинные верующие способны полностью отключить сострадание и совершать ужасные поступки с чистой совестью. Таким образом, духовно ориентированному терапевту важно уметь распознавать, что идет от Самости, а что – от социальных условий, нарциссических императивов и патологических комплексов. Было бы просто всегда ссылаться на высшую волю, но кто знает, чья воля исполняется в данный момент?
Терапевтам стоит помнить о том, что на людей библейской традиции истории из Библии оказывают сильное, хотя зачастую и бессознательное влияние. И история с жертвоприношением Исаака является важной частью нашей западной традиции. Чилтон (Chilton, 2008) очень наглядно описал механизмы использования этой истории для рационализации мученичества и других форм религиозного насилия в иудаизме, христианстве и исламе, хотя Авраам спустился с горы Мориа, не измарав рук кровью сына. Важной частью истории об Аврааме является тот факт, что Бог обещал ему потомков «как звезд на небе», но при этом Авраам остается бездетным в течение того возраста, когда создание потомства особенно важно. Исаак рождается, когда Авраам уже стар, и поэтому он еще сильнее дорожит сыном. Из-за этого жертва кажется еще ужаснее. Поэтому Авраам и представляет собой архетипический образ тотального повиновения Богу. В Библии сказано, что Бог искушает Авраама (Быт. 22: 1), а вся история традиционно трактуется как отказ иудаизма от принятого среди язычников принесения детей в жертву. Как отмечает Эдингер, эта история демонстрирует также развитие более человечного Бого-образа – ведь в последний момент жертва отменяется (Edinger, 1984, p. 97f). Все мифы обладают несколькими уровнями смысла, а сегодня ко всем традиционным пониманиям мы можем добавить еще и герменевтику глубинной психологии. Если бы терапевту пришлось взглянуть на современного Авраама с точки зрения психодинамики, то у него возникло бы два вопроса: как в нем появился импульс убить Исаака и как он на самом деле относился к Исааку. Нам также пришлось бы подумать о том, как рос Исаак после этого события, постоянно помня о том, что отец был готов убить его. В Библии ничего не сказано о влиянии этого травматического переживания на развитие Исаака, хотя многие комментаторы считают, что он осознанно шел на жертву (см., к примеру, Kugel, 1998, p. 322ff). Возможно, осознание намерений отца предопределило схожесть их путей. К тому же именно это осознание является причиной, с одной стороны, добродетельности, а с другой – беспомощности Исаака.