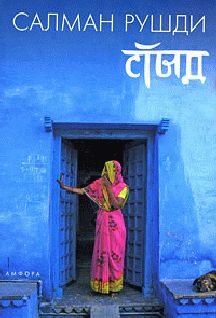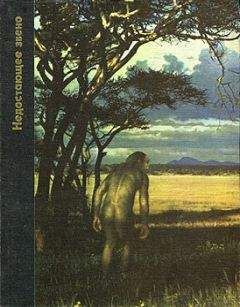Бенджамин Килборн - Исчезающие люди. Стыд и внешний облик
Отметим, что то расщепление, о котором здесь идет речь, это, главным образом, не расщепление между внешним и внутренним, как это могло бы быть выражено в проекции, но скорее состряпанное кое-как представление о своем жизненном опыте и о себе как попытка защитить себя от гнева, разорванности и пустоты.
На начальной стадии лечения моя роль заключалась, главным образом, в том, чтобы обеспечивать удерживающее окружение (holding environment). Мои вмешательства были в основном направлены на то, чтобы сделать ее гнев понятнее ей самой. Я также прибегал к интерпретации ее страха, что я ее отвергну, так же, как ранее ее отвергали другие. Я искал возможности минимизировать последствия расщепления и обезвредить параноидные проекции. В каком-то смысле то, что она чувствовала «мертвым» в себе, было некоторой ее версией, которую она могла показать окружающим без стыда. В этом смысле она воспринимала окружающий мир (и своего аналитика) как лишающий ее чувства собственного достоинства. И это вызывало еще больше ярости в ней и еще больше стыда.
Одним из признаков раннего переноса было переживание Норой того, что я мучил ее, никак ей не помогая и таким образом заставляя ее повторять травму напрасного обращения за помощью к тем, от кого она зависела. «Нет никакой помощи для жертв насилия», – повторяла она, как молитву, тихим деревянным голосом. Мой подход состоял в том, чтобы предлагать ей помощь по поводу любых проблем ее каждодневной жизни, которые представлялись ей непреодолимыми, и в то же время интерпретируя ее тенденцию использовать эти проблемы, чтобы защищаться ими от реальных источников тревоги – ее страхов собственной беспомощности, гнева и ужаса отвержения. Мой подход несколько напоминал работу с ребенком – сесть на пол и включиться в игру. Если аналитик включен в игру, он может интерпретировать ее ход.
Мой собственный контрперенос включал гнев на ее многочисленные суицидальные угрозы, беспомощность и чувство, что я перегружен тысячью ее проблем. Поскольку каждую свою проблему она воспринимала как памятник своей беспомощности, она заставляла меня чувствовать свою беспомощность и подавленность перед лицом ее требований и потребностей. Я начал интерпретировать эту ее тенденцию, проявляемую по отношению к каждому человеку в ее жизни. Она изолировала себя от других людей, заставляя их чувствовать себя беспомощными и некомпетентными, так что они пытались от нее избавиться. Она не могла избавиться от самой себя, поэтому считала, что другие могут это и этого хотят.
Работая с такими серьезно нарушенными клиентами, обычные критерии нейтральности и абстиненции следует подчинить пониманию потребностей пациентки, ее чувствительности к стыду за свою фрагментированность, и пытаться не позволить этим чувствам втянуть аналитика в ситуацию невольного повторения травмы. Скорее следует добиться того, чтобы сама травма стала доступной для аналитического процесса, чтобы помочь выйти на свет связанными с ней стыду и боли.
Травма, боль и повторение
Один из очень трудных вопросов состоит в том, почему и как такие люди, как Нора, повторяют болезненный опыт (см. классические работы Фрейда «Воспоминание, повторение и проработка» и «Ребенка бьют»). На этот вопрос определенно нет адекватного ответа. Тем не менее можно ответить на этот вопрос частично, например, что боль имеет анестезирующую функцию. Каким бы болезненным и травмирующим ни было расщепление само по себе, его можно использовать для облегчения еще большей боли. Одна боль может облегчить другую, если она связана с «морально менее значимой и очевидно нереальной частью тела» (Клинический дневник). Короче говоря, для использования боли для облегчения другой боли требуется как соматизация (либо в форме нечувствительности, либо в форме отсроченной боли), так и всемогущество мысли, которые могут принять форму чувства неуязвимости, даже если что-то и происходит в теле, как это было в случае с Дороти, к которому я хотел бы сейчас перейти.
Дороти (случай 2)
Из того, что было сказано до сих пор, кажется справедливым, что где травма, там и расщепление, а где расщепление, тут же и ядовитый стыд. Акцент, который Ференци сделал на первичной роли матери в диаде мать-ребенок в концептуализации травмы, повлиял на несколько поколений психоаналитиков: кляйнианцев, приверженцев теории объектных отношений и межличностного психоанализа, а также Я-психологов. Недавно его вклад был заново переоценен в свете взаимоотношений Ференци с Фрейдом, его работы с психотиками и его внимания к потенциально травмирующему влиянию аналитической ситуации (например, ^ум^ 1987, 1989, 1991; Hoffer, 1991; Fogel, 1993; Kirschner, 1993; Kilborne, 1999). Более того, как, я надеюсь, это станет понятным из моих клинических примеров, процессы проработки с необходимостью влекут за собой толерантность ко все более интенсивным чувствам стыда. Наряду с этим чувства ранимости в переносе становятся более доступными, параноидные защиты выражаются в гневе на аналитика, появляется ненависть в контрпереносе (Winnicott, 1949).
Вскоре после того, как я начал работать с Дороти, я узнал, что ее прежний аналитик имел с ней сексуальные отношения в своем офисе в те дни и часы, когда до этого у них были сессии. Некоторое время после начала нашего анализа эти сексуальные отношения продолжались, несмотря на то, что она переживала эти встречи как изнасилование. Я был поражен степенью деперсонализации и немоты, которые я в ней наблюдал через день или два после каждой из таких встреч. Когда я спрашивал ее, как она себя чувствовала, она отвечала, что абсолютно ничего не чувствовала, кроме туманного ощущения, что она плывет в водной стихии, и столь же смутного чувства дезориентации. В этой защите, показывающей всемогущество мышления, можно было увидеть наличие глубокой детской травмы. Здесь также присутствовали истерические элементы, поскольку имела место отсроченная/смещенная боль. Она очень чувствительно реагировала на боль тех, кого любила (например, родителей), но не на собственную боль, которую она не могла обнаружить. Когда ее родителей положили в больницу, она мобилизовала в себе огромные силы, чтобы организовать за ними уход и неустанно бороться за устранение их боли. Сама же она была оцепенелой. Чтобы защититься от любого переживания боли, она использовала регрессивное слияние (в особенности с матерью).
Годами она встречала все мои попытки с кажущимся безразличием и испепеляющим презрением – прямым следствием стыда. Когда я пытался прояснить что-нибудь, что, как мне казалось, она уже знала, она на корню уничтожала все мои попытки. Когда я пытался связать то, что было сказано на предыдущих сессиях или даже по телефону в тот же день, с чем-нибудь в переносе, она отвергала все это, говоря мне: «Вы никак не можете понять, что я уже ушла от этого. Я всегда впереди вас на много световых лет. Вы никогда не можете находиться там, где я». Она пояснила свой комментарий, обратив мое внимание на отставание, связанное с видимым нами светом, как это происходит со звездами, чей свет мы видим через тысячи лет. В одном из сновидений она увидела меня, отжимающегося на кухонном столе. Однако она всегда знала, когда я был болен или у меня что-то болело, иногда даже до того, как я узнавал об этом сам. Такая удивительная чувствительность к другим людям, такая гипертрофированная эмпатия, иногда даже на грани сверхъестественного, достаточно описана в литературе о травмированных пациентах. Она ссылалась на чувства «четвертого измерения», намекая на эпизод из «Сумеречной зоны» под названием «Потерянная маленькая девочка». В этом эпизоде девочка пяти лет исчезает в одном таинственном месте в стене. За кроватью девочки есть маленькое пространство – невидимый проход в четвертое измерение. Ее отец пытается пройти туда, но не может. Перед тем, как ей безвозвратно исчезнуть, отец посылает туда собаку, которой удается подтащить ее довольно близко к стене, так что отец может затащить ее обратно в человеческое трехмерное пространство. В переносе она вела себя, как в четвертом измерении, оставляя меня, как та девочка своего отца, блуждающим в темноте.
Каждый раз, когда она серьезно подходила к вопросу о своих сексуальных взаимоотношениях с предыдущим аналитиком, она испытывала омерзение, ужасаясь тому, как она могла делать что-либо подобное. Таким образом, повторяя это событие, Дороти чувствовала себя более способной отрицать эту травму. Боль, связанная с этими сексуальными отношениями, анестезировала ее и не могла быть прочувствована, потому что не была сознательной. И действительно, ее сексуальные встречи сами по себе были сокрытием травмы. Дороти сама могла говорить о том, что ее не пугали и не травмировали эти сексуальные отношения, поскольку они неоднократно повторялись; как бы она могла их продолжать, если бы они были для нее травмирующими? Такой способ анестезии боли болью указывает на раннюю травму. И действительно, от ее детства осталось много травмирующих воспоминаний, связанных с докторами и другими мужскими фигурами, которые всплыли в ходе лечения, что сопровождалось появлением очень сильных переживаний (ужаса, гнева, боли, смущения и др.), указывающих на нарушения границ ее отцом. Были ли эти события на самом деле травмирующими в то время, как они случились, в действительности было не так важно, как то, что они присутствовали в анализе как невыносимо болезненные воспоминания.