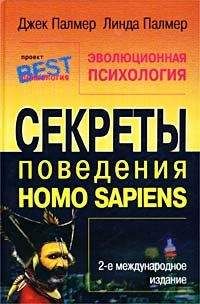Гагик Назлоян - Портретный метод в психотерапии
Идентификация человека с самим собой не всегда учитывается представителями диалогического направления. Ошибка коренится в том, что они задаются не вопросом, какова роль «я» и «ты» в диалоге, а вопросом, какова роль диалога для «я» и «ты». Тут не помогает даже формальное отрицание «я» или «ты» вне диалога. «Дело в том, – пишет С. Л. Франк, – что никакого готового сущего-в-себе «я» вообще не существует до встречи с «ты». В откровении «ты» и в соотносительном ему трансцендировании непосредственного самобытия – хотя бы в случайной и беглой встрече двух пар глаз – как бы впервые совместно рождается и «я», и «ты»; они рождаются, так сказать, из взаимного, совместного кровообращения, которое с самого начала как бы обтекает и пронизывает это совместное царство двух взаимосвязанных, приуроченных друг к другу непосредственных бытия. «Я» возникает для меня впервые лишь озаренное и согретое лучами «ты» (Франк, с. 50). Это, на наш взгляд, – совершенно неверное описание человека и межчеловеческих отношений. Оно приводит автора к таким же сомнительным выводам о взаимных «проникновениях», «уничтожениях», «откровениях» и т. п. Вопреки им «Я есмь» существует в сложной структуре общеизвестной паузы в беседе или когда собеседники переводят дыхание, глотают слюну в двигательном, вербальном или визуальном общении.
Если же мы вслед за Бахтиным будем рассматривать каждое высказывание как отклик на предыдущие (последовательное пересечение границ двух «я»), то это будет противоречить нашему опыту (Шоттер, с. 107). Работая с душевнобольными, мы часто говорим однотипными фразами с многократным повтором тем и реплик, однако диалог (иногда похожий на монолог) бурно развивается благодаря последовательной смене структурных образований, сеансов, масок. Язык в нашей практике является носителем чувств больше, чем содержания. Имели место даже случаи длительного (до двух лет) невербального контакта, или контакта в виде «монолога» врача и «монолога» больного, и это время было потрачено не зря – этапные и итоговые диалогические достижения свободно документировались нами.
Врач совершает «захват» и «присвоение» образа пациента (моя модель, мой пациент – мой ребенок, но лишь отчасти). Затем он переходит к его воспроизведению. Вектор его творческой активности направлен в будущее. Момент окончательной реализации визуальных впечатлений совпадает с настоящим, здесь нет ни прошлого, ни будущего. Итак, по нашим наблюдениям, феномен диалога «я» и «ты» не исчерпывается тем, что партнеры смотрят друг другу «в глаза» (по Буберу и Франку), а продолжается и тогда, когда они «отводят глаза друг от друга» в процессе ассимиляции воображаемого образа партнера по диалогу. Происходит соотнесение этого визуально-вербального комплекса с самим собой, с собственным зеркальным «я», со всей онтогенетической глубиной этого «я», до полного их соотнесения и совпадения. Здесь «атомарный» творческий акт завершается, и возникает острая необходимость в новых визуальных впечатлениях. В этом настоящем есть начало будущего в виде интенционального прорыва, который формирует мотив следующего творческого события.
Из всех философов-диалогистов один Розеншток-Хюсси пытался описать некое развивающееся во времени неделимое образование, структуру. Он поместил человека в гипотетический центр, из которого тот может смотреть назад, вперед, внутрь и наружу; этот «крест действительности» создается осями пространства и времени. На наш взгляд, в этой схеме крылья креста не равнозначны, так как на оси пространства назад, вперед или, добавим, в стороны, вниз, вверх, – все это означает наружу, а на оси времени сторон внутрь и наружу вообще не существует. Следовательно, «прорыв» из единого пространства-времени не может состояться при всей убедительности самой идеи структурного перехода из настоящего в будущее (см.: Пигалев). Концепция диалога у Розенштока-Хюсси, как и у других авторов, плоскостная (лишена объема), а диалогическое событие в этом «эфире» или «пневме» (по Ф. Эбнеру) представлено в виде пунктирных линий, упорядоченных в двоичной последовательности.
Дискретная природа диалога, незримая и гипотетическая на элементарном уровне, находит свое объективное воплощение, ощутимую форму в конце сеанса, этапа, всего лечебного процесса. Эти концовки качественно одинаковы, они существуют в том сечении времени, когда, исчерпав текущее впечатление, врач-скульптор обращается к пациенту-модели уже не за очередными визуальными впечатлениями, а чтобы словом, знаком, просто уходом дать понять, что сеанс, этап лечения или же вся работа закончена. Получается резкое несовпадение с ожиданиями пациента, надеждами на будущее – истинная утрата иллюзий, когда его оставляют в настоящем, лицом к лицу с самим собой.
Последствия шока проявляются в форме «отреагирований» разного масштаба. Происходит калейдоскопическая смена выражений на лице пациента, сопровождаемая эмоциональными выплесками, затем неизбежная встреча с самим собой и самоотождествление в процессе оценки завершенности скульптурного портрета (отчуждение от портрета). Значит, развязка может наступить только при потере партнера, и это сугубо диалогическое явление. Вот как описывает свои переживания больная М. Х., которая на несколько лет закрылась от внешнего мира, считая, что окружающие критически обсуждают ее волосы, нос горбинкой, другие «дефекты» ее внешности, а также поведение и мысли в целом.
Сеанс портрета 03.10.98 г. «Свет в конце туннеля появился, уже другое восприятие жизни, но есть еще одна проблема, о которой я не могу говорить, я надеюсь, что портрет решит эту проблему. Из-за этой проблемы можно вообще повеситься. Я знаю, что каждый момент все меняется, и я взгляну в лицо этому состоянию и выйду из него». После последнего сеанса 07.11. 98 г. Мадина говорит очень сбивчиво: «Я раньше жила как в полусне, я могла закрыться в ванной и купаться 4 часа, и время тянулось, и я его не замечала. Это время другой реальности. Теперь я могу с собой разговаривать, как будто две меня. Тут много факторов. Но я чувствую влияние портрета, он вернул меня в реальность, как будто Бог по голове погладил. Сейчас мои чувства – это все не бред. Я просто все выплеснула в эфир, в какой-то момент хотелось плакать. Я четко определила – что есть, и по полочкам все раскладываю». Перед уходом домой, после бурных излияний, плача, упреков в адрес отца. «Я почувствовала себя взрослым человеком. Пришло восприятие спокойствия, уверенности. Полная река, без всплесков, без водопадов. Я почувствовала себя взрослой женщиной».
Здесь мы близко подходим к проблеме катарсиса, которую должны изложить уже в категориях диалогического мышления[35]. Помимо наших многолетних наблюдений, опору мы находим не только у современных авторов, но и в известном фрагменте «Поэтики» Аристотеля. И не потому, что она считается первоисточником этого понятия, а потому, что Аристотель выводит содержание катарсиса из природы античного театра – искусства диалога.
3.5. Катарсис у Аристотеля
Из сохранившихся свидетельств, можно сделать вывод, что в античную эпоху явление катарсиса (т. е. очищения) было в центре внимания философов. Видимо, не случайно греческие мудрецы привязывали его к основным категориям своих учений (Гераклит – к огню, Пифагор – к музыке и числам, Платон – к душе и телу). Существовали и другие точки зрения, от религиозных до поэтико-эстетических. Но все это стороны хорошо известного явления, связанного с жертвоприношением (заклание «козла отпущения»), а затем с театром. Общим для них является то, что катарсис – это интенсивно окрашенное, ни с чем не сопоставимое психофизическое состояние, обусловленное строго определенным стечением обстоятельств. Оно возникает при восприятии искусства и приводит к «просветлению», «избавлению», «исцелению» души. «Понятно поэтому, – свидетельствует О. Фрейденберг, – что обряды очищения сопровождали мистерии и драматическую обрядность как дубликат; такое очищение называлось «катарсис» или «катармос» и заключалось в убиении жертвенного животного. В то же время «жизнь» представляется в анимистический период как «душа», и самое «очищение-жизнь», дальше – «очищение жизни» обращается в «очищение души»» (Фрейденберг, 154).
Концепции пифагорейцев и Аристотеля имеют точки соприкосновения в контексте диалогической парадигмы. Однако катарсис пифагорейцев сегодня труднее отделить от представления об эстетическом удовольствии. Взгляды Аристотеля сохранили актуальность в результате выбора им театра как места возникновения катарсиса (в отличие от изобразительного искусства как места подражания, мимесиса), который посредством «сострадания и страха совершает очищение» (Аристотель, 1984). Однако если отвлечься от мысли, что зритель непременно должен испытать страх, особенно когда героя на сцене «убивает» родственник, что показывают именно трагедию, а не комедию[36], то можно сказать, что эта концепция до настоящего времени не превзойдена другими авторами и актуальна. Она актуальна потому, что в трагедии создается (особенно у Еврипида) структура диалога с партнером, в которую зритель легко вовлекается посредством идентификации себя с героем (Морено, с. 3).