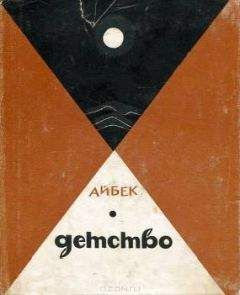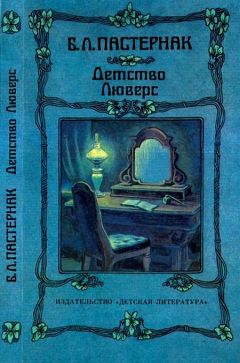Эрик Эриксон - Детство и общество
Итак, Алёша тоже пролетарий. После «работы» он и его ватага лежат на крутом берегу реки, с умеренной высоты которого эти обездоленные дети всматриваются в горизонт и в будущее. О чем они там мечтают? О том, чтобы завести голубей, а потом выпустить их на свободу: «Я люблю смотреть, как голуби кружат в прозрачном летнем небе».
Эта мысль о свободе усиливается, контрапунктически, другой знаменательной встречей. Внимание Алёши привлекает веселый юный голос, доносящийся из подвального окна. Алёша идет на этот голос, и обнаруживает Лёньку, мальчика-калеку, прикованного к постели. У него с рождения парализованы ноги: «не ходят, не живут, а - так себе...» - как он сам объясняет. Поэтому мальчик заточен в подвале, как в тюрьме. Однако оказывается, он живет в своем собственном мире - мире игры и фантазий. В коробках Лёнька держит разную мелкую живность, которая вынуждена делить с ним его плен. Но он живет ради того дня, когда увидит поле и степь, - и тогда откроет все эти маленькие коробочки и выпустит всех на волю. А до этого букашки и козявки составляют его микрокосм, являясь отражением внешнего мира: таракан - «Хозяин», муха - «Чиновница». Подлинные угнетатели из реального мира оказываются пленниками его игрового мира. Возникает такое впечатление, будто его искалеченное тело позволило ему быть единственным ребенком с игривым умом в этой картине. Его смех - самый радостный и самый свободный, а глаза наполнены восхищенным блеском. Его ощущение власти, кажется, не знает границ; он уверен, что «если мышь все кормить да кормить, так она вырастет с лошадь».
Видя любовь мальчика к своим товарищам по заточению и его насущную потребность и способность наделять эти маленькие существа, вроде мыши, мифическими возможностями, Алёша, после недолгих колебаний, отдает Лёньке белого мышонка. Этот мышонок, как мы помним, был посмертным даром Цыганка Алёше, его последней связью с весельем и последней забавой. Почему он отдает его? Что это - жалость? Милосердие? По-видимому, Алёша снова растет морально, жертвуя утехой и сопротивляясь искушению - искушению играть, мечтать, крепко держаться за фетиши-заменители, которые облегчают тюремное существование и, тем самым, добавляются к его оковам. Он знает, что ему придется обходиться без забав. Таким образом, каждый из поступков Алёши (или его отказов совершить их) подобен обету. Один за другим уничтожаются мосты регрессии и навсегда отвергаются инфантильные утехи души.
Лёнька же может стать свободным, только если кто-то освободит его, даст ему ноги. Это и есть та задача, какую Алёша ставит перед своей ватагой. Из собранных на помойках частей какой-то машины мальчишки сооружают ему коляску, механический протез локомоторной свободы.
Г. Спелёнатый младенец
Фигура Лёньки, видимо, взята не из книги Горького. Мне неизвестно, кто ее придумал. [Лёнька - герой рассказа М. Горького «Страсти-Мордасти», сюжет которого, наряду с автобиографической трилогией Горького (о ней говорит Эриксон), использован в сценарии этого фильма. - Прим. пер.] Однако представляется важным, что самый эмоциональный и веселый из всех детских персонажей фильма оказывается, так сказать, наименее подвижным. Его восторг не знает границ, а ноги связаны, они «не живут, а - так себе». Это затрагивает неразрешенную русскую проблему детского воспитания, которая приобрела почти смешное звучание в недавних дискуссиях о русском характере: проблему пеленания (или свивания).
Действительно ли русская душа - спелёнатая душа? Некоторые из ведущих ученых в области исследования русского характера, которым я обязан моим знакомством с этим кинофильмом, именно так считают. [Geoffrey Gorer, «Some Aspects of the Psychology of the People of Great Russia», The American Slavic and Eastern European Review, 1949. См. также Geoffrey Gorer and John Rickman, The People of Great Russia, W. W. Norton Co., 1962.]
Среди огромного сельского населения России и, в различной степени, среди жителей всех ее регионов и слоев, разделявших и разделяющих общее культурное наследие великих среднерусских равнин, такой элемент ухода за ребенком, как пеленание, был развит до крайности. Хотя обычай заворачивать новорожденных в пеленки широко распространен во всем мире, согласно древнерусской традиции младенца следует пеленать целиком (с головы до пят) и достаточно туго, чтобы превратить сверток в удобное для переноски «полено» («log of wood); кроме того, эта традиция предписывает пеленать ребенка большую часть дня и на всю ночь в течение девяти месяцев. Подобная процедура не приводит к какой-либо прочной локомоторной недостаточности, однако распеленатого младенца, по-видимому, приходится учить ползать.
Вопрос о том, почему нужно пеленать младенцев, вызывал у простых русских удивление: разве есть другой способ переносить ребенка с места на место и сохранять его тепло в долгие холодные зимы? А кроме того, как еще можно добиться, чтобы малыш не расцарапывал и не расчесывал себя, а также не пугался неожиданного появления собственных рук перед глазами? Скорее всего, так оно и есть: спелёнатый ребенок, особенно когда его только что распеленали, не настолько владеет собственными движениями, чтобы уберечь себя от случайных царапин и ушибов. Дальнейшее же предположение, что поэтому его приходится пеленать снова - это излюбленный трюк культурной рационализации, которая превращает специфический способ (pattern) ограничения свободы младенца в самостоятельный феномен культуры. Младенца нужно пеленать, чтобы защитить его от себя самого; пеленание вызывает у него сильные вазомоторные потребности, и он должен оставаться эмоционально «спелёнатым», чтобы не пасть жертвой неистовой эмоции. А это, в свою очередь, способствует созданию базисной, довербальной установки, согласно которой людей, ради их же собственного блага, нужно строго ограничивать, хотя и предлагать, время от времени, способы разрядить сжатые эмоции. Поэтому пеленание подпадает под рубрику тех вопросов воспитания ребенка, которые должны иметь существенное отношение к образу мира целостной культуры.
Действительно, нет такой другой литературы, помимо русской, где был бы столь широко представлен вазомоторный эксцесс. Люди в русской беллетристике выглядят изолированными и, одновременно, несдержанными в проявлении чувств: как если бы каждый был странным образом заточен в себе самом как в изолирующей камере задушенных эмоций и, тем не менее, вечно стремился бы к другим душам, вздыхая, бледнея и краснея, рыдая и падая в обморок. Многие населяющие эту литературу персонажи, кажется, живут ради того мгновения, когда какое-то опьянение (или отравление?) - секреторное, алкогольное или духовное - позволит достичь временного слияния чувств, добиться взаимности, - часто, лишь иллюзорной, неизбежно завершающейся изнеможением. Но нам нет нужды выходить за пределы обсуждаемого кинофильма: если повседневная русская действительность времен юности Горького обнаруживала хотя бы долю той несдержанности, силы и широты выражения чувств, какую мы наблюдаем в этом фильме, отражение эмоции в сознании маленького ребенка должно быть живым и калейдоскопическим.
Тогда интересно поразмышлять о том, что спелёнатый младенец - когда он начинает сознавать такую эмоциональность - лишен возможности без посторонней помощи реагировать на нее «двигательно»: взбрыкивая ножками, взмахивая ручками, шевеля пальчиками. Он также лишен возможности поднимать голову, хвататься за опору и распространять свое зрительное поле на звуковые источники воспринимаемого потрясения. Такое положение можно, фактически, рассматривать как обременение вазомоторной системы задачей гашения и уравновешивания всех этих ярких впечатлений. Только во время периодического разворачивания младенца он получает возможность участвовать в бурном излиянии чувств старших.
Однако чтобы оценить значение такого элемента детского воспитания, как пеленание, в полной конфигурации культуры, вряд ли стоит ограничиваться единственной однонаправленной цепью причинности - в том смысле, что русские таковы, какими они оказываются на самом деле или, возможно, кажутся или изображают себя, - потому что их пеленали. При обсуждении других культур мы должны скорее предполагать взаимное усиление некоторого количества тем. Вполне вероятно, что почти универсальный и, между прочим, довольно практичный обычай пеленать младенцев получил в России усиление под действием той синхронизирующей тенденции, которая сводит географию, историю и детство человека в несколько общих категорий. Мы наблюдаем конфигурационную близость между этими тремя элементами русской традиционной культуры.
1. Компактная социальная жизнь в уединенных укрепленных поселениях, изолированных друг от друга холодами центральных равнин, и периодическое освобождение их жителей после весенней оттепели.