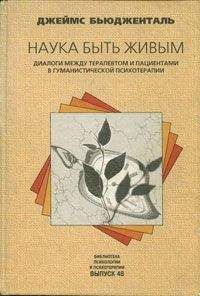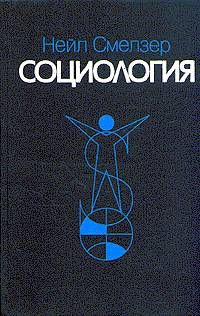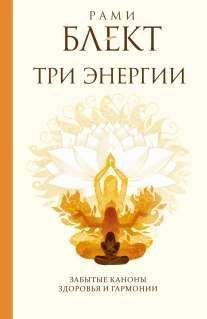Павел Волков - Разнообразие человеческих миров
Еще старым психиатрам был известен следующий феномен: в руки больному клали гири весом в 1 кг, но совершенно разных размеров, и он сообщал, что вес гирь одинаков, в то время как здоровые, поддаваясь иллюзии, часто ошибались.
Против понимания шизофренических проявлений исключительно как минусов и недостатков выступал гейдельбергский психиатр Груле. Нормативный подход, при котором за эталон принимается жизнь так называемых «здоровых людей», ставит больных в положение неполноценных. Такой подход сужает перспективу видения. «Крепелин, по мнению Груле, слишком был заражен именно этим нормативным подходом к больным. Меньше этики, больше антропологии, меньше интересоваться тем, что должно бы быть, и больше тем, что есть. Такова позиция Груле» /123, с. 28/.
Груле отмечал: «Мы имеем у схизофреника не то, что мы имеем у здорового, а нечто другое; но «другое» не обязательно есть минус. Этой предвзятости следует избегать насколько возможно» /123, с. 25/. Таким образом, Груле предлагал подходить к пониманию шизофрении как к «другой» жизни, представленной во всем ее качественном своеобразии, а не только с точки зрения того, чего ей не хватает, чтобы стать жизнью нормальных» людей. Он считал бесплодным говорить о разрыве ассоциативных связей, поскольку ассоциативная психология недостаточна для того, чтобы охватить проблемы мышления в целом. Груле подчеркивал., что «схизис надо понимать не в смысле расщепления ассоциаций («не в виде отрыва этикетки от коробки»), а в смысле изменения движущих мотивов личности, т. е. в плоскости системы ценностей» /123, с. 30/. При этом Груле говорит не о деструкции мотивации, а о «переслоении» мотивов.
Возможно, мысли Груле с рядом оговорок можно выразить так: шизофреник — это человек с иной системой ценностей и иным механизмом мотивации. Гуле допускает, что «речь у схизофреника потенциально сохранена; схизофреник говорит не так, как нормальный человек, не потому, что не может говорить нормально, а потому, что не хочет, не желает этого, потому что сложный комплекс его переживаний и установок побуждает его к этому» /123, с. 26/.
Груле, рассуждая о шизофренических расстройствах, приближается к экзистенциально-гуманистическому подходу к шизофрении как иному способу бытия человека в мире. Рассмотрим один из вариантов этого подхода. Если здравомыслию и практичности не придавать значения решающего критерия, то некоторые шизофренические миры оказываются более глубокими и подлинными, чем мир обычного человека. Здоровый человек может оказаться бездарностью и преступником, а больной — гением и святым. В конце концов людей будет интересовать то, что тот или иной человек оставил после себя в культуре, и гораздо меньше то, какой диагноз стоял в его медицинской карте. Известно, что многие фундаментальные открытия и творческие прорывы принадлежат шизофреническим людям. Более того, своими достижениями эти люди во многом обязаны не только своим талантам, но и креативным особенностям шизофренического мышления и чувствования. Полифонист в отличие от шизоида менее связан внутренней необходимостью выстраивать систему знания и мировоззрения, сознательно или бессознательно разрушает эту систему — и потому его мышление бывает даже более оригинальным и свободным, чем шизоидное. Если с помощью еще неизвестного нам лечения уничтожить эти особенности, то одновременно исчезнет незаурядный творческий потенциал шизофренических людей. Поэтому оптимальной стратегией представляется борьба с шизофреническим страданием при сохранении полифонических творческих особенностей. Абсолютное искоренение шизофрении сделает мир более плоским и банальным.
А. Кемпинский /67/ отмечает, что многие больные шизофренией мало способны к лицемерию, социальным ролям. В больных меньше корысти, ложного честолюбия, социальной суеты, чем в здоровых. Как пишет Кемпинский, «царство шизофреническое "не от мира сего"». Он трактует шизофренический психоз как прорыв к свободе, сбрасывание внешних оков, но, к сожалению, нередко больной становится пленником чувств, стремлений, образов, вырвавшихся из глубин потаенного, не справляется с ними, и освободительный пожар превращается в концлагерь, а затем в пепелище.
В момент психоза даже «темный» крестьянин способен испытать феерические глубинные переживания, на которые, казалось бы, в своей повседневной жизни он был абсолютно неспособен. Если психоз наполнялся восторгом, озарением, то остается в памяти как самая яркая страница жизни. Если же в нем доминировала тревожно-депрессивная зловещесть, то хочется забыть его, стереть из памяти. В таких случаях, отмечает Кемпинский, переживания превышают границу обычной человеческой толерантности. Он указывает на сходство личностных изменений узников концлагерей и больных, перенесших такой психоз. Я полагаю в связи с этим, что мы должны с уважением и особым сочувствием относиться к подобным больным, как делаем это в отношении невинных узников концлагеря. Больные после психоза порой оказываются более толерантными к обычным жизненным стрессам, потому что в сравнении с психозом тяготы жизни выглядят бледнее. Однако у многих из них возникает вторичный надлом. Как проницательно заметил Кречмер, больному кажется, что «психоз разрушил во мне так много, что не стоит, пожалуй, из остатков строить что-то новое». Такие люди нуждаются в особой психологической и социальной поддержке, ободрении.
В случае затяжных бредовых психозов важно с уважением относиться к титанической работе больных в связи с тотальным переосмыслением действительности. Меняются все точки отсчета, необходимо обдумать крайне многое, так как больному, особенно при бреде величия или преследования, кажется, что все связано с ним, нет ничего нейтрального (overinclusion, феномен сверхвключенности англоязычных авторов). Мир сходит с привычной орбиты и начинает вращаться вокруг больного — так называемый «птолемеевский поворот». Это радикальное переструктурирование мира требует крайнего напряжения всех сил. Если же развитие бреда идет на убыль, то нужно проделать «коперниковский поворот» (Конрад К., 1967), то есть снова увидеть себя как маленькую частицу мироздания, которая вызывает интерес лишь у ограниченного круга людей.
Д. Хелл и М. Фишер-Фельтен пишут, что «некоторые больные, перенесшие психоз, сообщают о том, что им помогла попытка задним числом истолковать пережитое психотическое состояние как сновидение. Таким образом, они могли лучше сопоставить свои необычные переживания с повседневностью и лучше понять самих себя» /152, с. 66/. Действительно, между сновидением и психозом есть значимые параллели. Из глубокого психоза человеку так же невозможно самостоятельно выбраться, как человеку во сне, который не понимает, что он спит: люди достигают точки, откуда возврат уже невозможен (point of no return). В психозе, как и во сне, очень многое случается, происходит само собой, при невозможности со стороны человека на это активно повлиять. В психозе и во сне размываются границы личности и становятся возможными самые невероятные вещи.
Допускаю, что в будущем мы научимся гораздо лучше понимать шизофренических людей. Вспоминаю своего товарища, который понимал казавшуюся нам всем разорванной речь больной и был способен с ней общаться. Он пояснял: «Мы с ней разговариваем на ассоциациях пятого порядка, нужно войти в эту длину волны разговора, на время забыв об обычно принятой речи». Известно, что Джеймс Джойс «отличался прекрасной способностью следовать непредсказуемым скачкам мысли своей шизофренической дочери, ставившим других людей в полнейший тупик» /147, с. 162/. Многие психиатры отмечали, что некоторые кажущиеся бессмысленными стереотипии, гебефренические ужимки и другая психопатология порой несут в себе смысл, иногда даже символ, являющийся квинтэссенцией жизненной установки больного. Возможно предполагать, что больные гораздо чаще вступают в коммуникацию, чем принято считать. Трудность понимания этой коммуникации состоит в том, что она необычна и больные не пытаются переводить свой индивидуальный язык на общепринятый. Я допускаю, что когда-нибудь наступит постблейлеровский этап изучения этих людей и о них скажут, что это — те, которые больше и напряженней чувствуют, и по-другому думают, и потому больше страдают, и которых, будучи не в состоянии понять, мы когда-то называли шизофрениками.
Эта глава остается принципиально незаконченной, часть из того, что написано в нижеследующих статьях, могла бы быть помещена и здесь.
11. Учебный материал
Герой фильма «Человек дождя», Реймонд, с детства страдал аутизмом. В фильме мы его видим уже взрослым человеком. При раннем детском аутизме мозг действует по-особенному, порой по-шизофренически. Этот вариант и демонстрируется в фильме. Реймонд отгородился от жизни стеной ритуалов. Выходить за эту стену ему страшно, потому что он не способен интегрировать сложный мир в цельный и понятный для себя. Его жизнь подчинена неукоснительному распорядку, правилам, но в нее не включены люди, которые страшны своей непредсказуемой спонтанностью. Если происходит что-то непредвиденное, то Реймонд фиксирует произошедшее в тетради или дает психический срыв, в котором, будучи неспособным ударить обидчика, бьет самого себя. Он старается не прикасаться к людям, не смотрит им в глаза. Если люди пытаются проникнуть в его мир слишком прямо, он на все отвечает: «Не знаю». Д. Хофман талантливо передает кататонические особенности Реймонда. Его лицо амимично, как гипсовое, походка стреноженная, движения лишены плавности, руки напряженно стиснуты перед грудью, голова наклонена в сторону. Он часто стереотипно раскачивается, у него отмечаются элементы вербигерации и эхолалии. Когда Реймонд сидит на скамейке и смотрит на уток, то похож на напряженно застывшую статую.