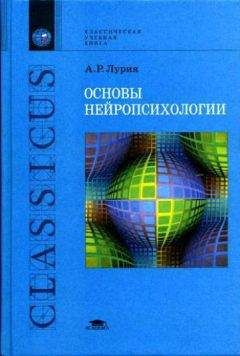Александр Лурия - Романтические эссе
8. Н AC AM АВ AM АН А. Пустяки! Приходится больше комбинировать, чем запоминать. НАСА — неудачный воздушный образ. Прихвачу из соседней части слова. Интересно, что получится? «Н'шама» — по-древнееврейски «душа» (НАСА-МА); душа в детстве представлялась мне в виде легких и печени, которые я часто видел на столе в кухне. Вот — у подъезда музея стоит стол, на котором лежит «душа» — легкие и печень, а дальше — тарелка с манной кашей. Восточный человек стоит у середины стола и кричит душе: «Вай-вай! (ВА) Опротивела манная каша!» (МА-НА).
9. САНАМАВАНАМА. Наивная провокация! Сразу узнаю картину у Сухаревской башни (третье слово) с прибавлением частицы «ма» в конце. На участке между Историческим музеем и оградой Александровского сада устанавливаю в точности ту же картину и на доску сажаю женщину с грудным ребенком — маму (МА).
10. ВАНАСАНАВАНА. Хоть до утра продолжайте в том же духе! В Александровском саду, на центральной дорожке стоят две белые (в отличие от № 6) фарфоровые ванны (ВАНА — ВАНА). А между стоит санитарка в белом халате (САНА), вот и все!»
Вряд ли следует продолжать протокол. Однообразное чередование слогов заменяется красочными наглядными образами, и «считывание» этих образов не представляет никаких трудностей.
Через 8 лет (6 апреля 1944 г.) мне пришлось — также без предупреждения — предложить Ш. воспроизвести в памяти этот опыт, и он сделал это без всякого труда и без единой ошибки.
Чтение только что приведенных протоколов может создать естественное впечатление об огромной — хотя и очень своеобразной — логической работе, которую Ш. проводит над запоминаемым материалом.
Нет ничего более далекого от истины, чем такое впечатление. Вся большая и виртуозная работа, многочисленные примеры которой мы только что привели, носит у Ш. характер работы над образом или, как мы это обозначили в заголовке раздела, своеобразной эйдотехники, очень далекой от логических способов переработки получаемой информации. Именно поэтому Ш., исключительно сильный в разложении предложенного материала на осмысленные образы и в подборе этих образов, оказывается совсем слабым в логической организации запоминаемого материала, и приемы его эйдотехники оказываются не имеющими ничего общего с логической мнемотехникой, развитие и психологическое строение которой было предметом такого большого числа психологических исследований[4]. Этот факт можно легко показать на той удивительной диссоциации огромной образной памяти и полном игнорировании возможных приемов логического запоминания, которую можно было легко показать у Ш.
Мы приведем лишь два примера опытов, посвященных этой задаче.
В самом начале работы с Ш. — в конце 20-х гг. — Л. С. Выготский предложил ему запомнить ряд слов, в число которых входило несколько названий птиц. Через несколько лет — в 1930 г. — А. Н. Леонтьев, изучавший тогда память Ш., предложил ему ряд слов, в число которых было включено несколько названий жидкостей.
После того как эти опыты были проведены, Ш. было предложено отдельно перечислить названия птиц в первом и названия жидкостей во втором опыте.
В то время Ш. еще запоминал преимущественно «по линиям» — и задача избирательно выделять слова одной категории оказалась совершенно недоступной ему: самый факт, что в число предъявленных ему слов входят сходные слова, оставался незамеченным и стал осознаваться им только после того, как он «считал» все слова и сопоставил их между собой.
Аналогичный случай имел место через несколько лет на одном из сеансов, который Ш. проводил в Саратове.
В таблице запоминаемых цифр ему был дан следующий ряд (см. табл. 3). Ш. с напряжением продолжал запоминать этот ряд цифр, применяя обычные для него способы зрительного запоминания, не заметив простого логического порядка, в котором были расположены цифры (табл. 3).
Таблица 3
«Если бы мне даже дали просто алфавит, я бы не заметил этого и стал бы честно заучивать, — говорил после Ш. — Может быть, я и узнал бы это при воспроизведении по звукам своего голоса, но, когда мне дали этот ряд, я совсем не заметил этого…»
Нужны ли лучшие доказательства того, насколько запоминание Ш. оставалось далеко от того логического запоминания, которое свойственно каждому развитому сознанию!
Мы сказали об удивительной памяти Ш. почти всё, что мы узнали из наших опытов и бесед. Она стала для нас такой ясной — и осталась такой непонятной.
Мы узнали многое о ее сложном строении, о том, что она складывалась как прочное удержание сложных синестезических впечатлений, что она носила яркий образный характер, что к ней прибавилась виртуозная эйдотехника, которая превращала каждый услышанный комплекс звуков в наглядный образ, не лишая его вместе с тем старых синестезических компонентов.
Мы узнали, что для самого простого и легкого, по словам Ш., запоминания цифр ему было достаточно простой и непосредственной зрительной памяти, что запоминание слов заменяло эту память памятью образов, что переход к запоминанию бессмысленных звуков или звукосочетаний заставлял его обращаться к самому примитивному приему синестезического запоминания — «кодированию в образах», которым он овладел в своей работе профессионального мнемониста.
И всё же как мало мы знаем об этой удивительной памяти! Как можем мы объяснить ту прочность, с которой образы сохраняются у Ш. многими годами, если не десятками лет? Какое объяснение мы можем дать тому, что сотни и тысячи рядов, которые он запоминал, не тормозят друг друга и что Ш. практически мог избирательно вернуться к любому из них через 10, 12, 17 лет? Откуда взялась эта нестираемая стойкость следов?
Мы уже говорили, что известные нам законы памяти неприменимы к памяти Ш.
Следы одного раздражения не тормозят у него следов другого раздражения; они не обнаруживают признаков угасания и не теряют своей избирательности; у Ш. нельзя проследить ни границ его памяти по объему и длительности, ни динамики исчезновения следов с течением времени; у него нельзя выявить «фактор края», благодаря которому каждый из нас запоминает первые и последние элементы ряда лучше, чем расположенные в его середине; у него нельзя увидеть и явление реминисценции в силу которого кратковременный отдых приводит к всплыванию, казалось бы, угасших следов.
Его запоминание, как мы уже говорили, подчиняется, скорее, законам восприятия и внимания, чем законам памяти: он не воспроизводит слово, если плохо «видит» его или если «отвлекается» от него; припоминание зависит у него от освещенности и размера образа, от его расположения, от того, не затемнился ли образ «пятном», возникшим от постороннего голоса.
И все-таки эта память не та «эйдетическая» память, которая детально была изучена наукой 3–4 десятилетия назад.
У Ш. вовсе нет той замены отрицательного последовательного образа положительным, которая является одной из отличительных особенностей «эйдетизма», его образы обнаруживают неизмеримо большую подвижность, легко становясь естественным орудием его намерения. К его памяти примешивается решающее влияние синестезий, делающих его запоминание столь сложным и столь отличным от простой «эйдетической» памяти.
И вместе с тем память Ш., несмотря на развитую им сложнейшую эйдотехнику, остается разительным примером непосредственной памяти. Даже придавая сложные условные значения тем образам, которые он использует, он продолжает видеть эти образы, переживает их синестезические компоненты; он не должен логически воспроизводить использованные им связи — они сразу же появляются перед ним, как только он восстанавливает ту ситуацию, в которой протекало его запоминание.
Его исключительная память, бесспорно, остается его природной и индивидуальной особенностью[5], и все технические приемы, которые он применяет, лишь надстраиваются над этой памятью, а не симулируют ее иными, не свойственными ей приемами.
До сих пор мы описывали выдающиеся особенности, которые проявлял Ш. в запоминании отдельных элементов — цифр, звуков и слов.
Сохраняются ли эти особенности при переходе к запоминанию более сложного материала — наглядных ситуаций, текстов, лиц?
Сам Ш. неоднократно жаловался на… плохую память на лица.
«Они такие непостоянные, — говорил он, — они зависят от настроения человека, от момента встречи, они всё время изменяются, путаются по окраске, и поэтому их так трудно запомнить».
В этом случае синестезические переживания, которые в описанных раньше опытах гарантировали нужную точность припоминания удержанного материала, здесь превращаются в свою противоположность и начинают препятствовать удержанию в памяти. Та работа по выделению существенных, опорных пунктов узнавания, которую проделывает каждый из нас при запоминании лиц (процесс, который еще очень плохо изучен психологией[6]), по-видимому, выпадает у Ш., и восприятие лиц сближается у него с восприятием постоянно меняющихся изменений света и тени, которые мы наблюдаем, когда сидим у окна и смотрим на колышущиеся волны реки. А кто может «запомнить» колышущиеся волны?..