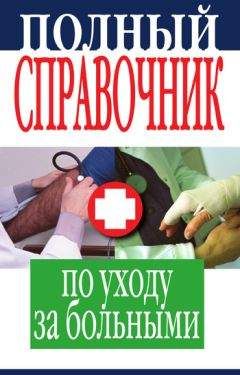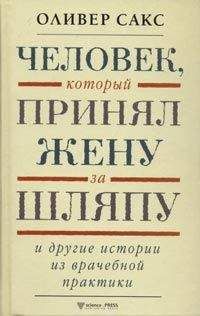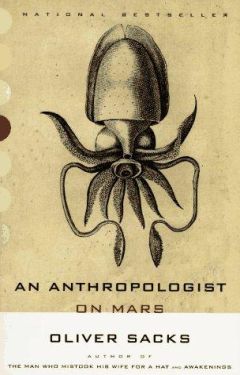Оливер Сакс - Пробуждения
Его прозрения имеют как фундаментальный теоретический интерес, так и буквально спасающую жизнь важность. Он пишет, как больные, которые в ином случае оставались недвижимыми, обретали возможность и способность двигаться с помощью бесконечного разнообразия методов — иногда их надо было слегка покачивать, иногда давать им в руки какой-либо предмет. Но самым волнующим было применение внешних регуляторов или команд, как, например, нанесение на дорожку для ходьбы последовательно расположенных поперечных линий.
Медицина такого рода является радикальной, поскольку физиологична, а также деликатно и непосредственно направлена на регуляцию функции. Она радикальна, потому что является скорее активной, чем пассивной (пациент перестает быть пассивным объектом получаемого лечения, а становится субъектом, осуществляющим собственное исцеление). Она радикальна и рациональна, потому что апеллирует к универсальным процессам и процедурам, которым может обучиться каждый пациент и использовать их к своим пользе и выгоде. Это активная медицина, приглашающая больного к сотрудничеству с врачом, медицина, объединяющая больного и врача в целях совместного обучения, преподавания, общения и взаимопонимания.
У этих больных использование леводопы или любого другого конвенционального и чисто эмпирического лекарственного лечения, терапию надо дополнять методами универсальной и рациональной медицины, медицины Лурии и Пердона Мартина.
Пердон Мартин, как и Лурия, занимается поиском алгоритмов, то есть универсальных процедур, для искалеченных неврологическими страданиями больных. Такие алгоритмы исключительно важны и все же недостаточны и ущербны. Я не уверен и не думаю, что нужны какие-то супералгоритмы, обладающие все возрастающей силой и эффективностью. То, что нужно, то, в чем нуждаются все без исключения больные, намного проще любого алгоритма, но может позволить пациентам двигаться и делать что-либо гораздо лучше, чем любой, самый прекрасный алгоритм. Что же это за тайна, которая работает при использовании любых методов и процедур, но по сути своей разительно отличается от алгоритма или стратегии? Это искусство.
У Новалиса есть отличный афоризм: «Каждая болезнь есть музыкальная проблема. Каждое исцеление есть музыкальное решение». Это абсолютно верно и носит оттенок сенсационности у больных паркинсонизмом и постэнцефалитическим синдромом. Мы видим пациентов, которые не способны сделать даже один шаг, но могут танцевать с наивысшей легкостью и грацией; мы видим больных, которые не способны к членораздельной речи, не способны произнести ни одного слова, но могут без труда петь, придавая музыке полный объем, внося в нее все богатство и тонкость интонаций, все чувства, которые должна вызывать эта музыка. Мы видим больных, которые запинаются, тормозят или испытывают судороги во время письма, то есть больных с микрографией, и все это происходит до тех пор, пока они, причем совершенно внезапно, не «проникаются» тем, что делают, и тогда почерк их становится, как раньше, ровным и четким. Они вновь обретают то, что Лурия называл «кинетической мелодией» письма. Мы видим (и я не перестаю восхищаться этим вместе с больными), как человек, не способный самостоятельно начать какое-либо движение, ловит и возвращает мяч без малейшего труда, с легкостью и изяществом, в своем неповторимом и уникальном стиле.
К этой же области относится самый распространенный и наиболее важный феномен из всех наблюдаемых феноменов — важность других людей для больного паркинсонизмом. Многие паркинсоники не могут самостоятельно ходить: они либо застывают на месте, либо заикаются, либо проявляют неконтролируемую торопливость. Но тот же больной может хорошо ходить, если кто-то есть рядом — при этом посторонний человек необязательно должен касаться больного (бывает достаточно визуального контакта). Очень много написано о таких «контактных рефлексах», но очевидно, что этого недостаточно. Эти явления, эти рефлексы находятся не в той плоскости, в какой лежит объяснение.
Одна больная, которая была весьма красноречива, когда дело касалось музыки (см. сн. 45, с. 122) испытывала большие затруднения при ходьбе в одиночестве, но всегда хорошо ходила, если с ней шел еще кто-нибудь. Очень интересны ее собственные комментарии по этому поводу. «Когда вы идете со мной, — говорила она, — я чувствую, что во мне есть тоже способность ходить. Я разделяю с вами вашу способность и свободу ходить. Я разделяю способность ходить, разделяю с вами ваше восприятие, ваши ощущения, опыт вашего существования. Вы делаете мне неоценимый дар, даже не подозревая об этом».
Эта больная ощущала свой опыт как нечто очень похожее на ощущения, которые испытывала, слушая музыку. «Я получаю чувства других людей, как разделяю восприятие музыки. Пусть даже это другие люди, в своих собственных естественных движениях, или будь это движение музыки, чувство движения, живого движения, передается и мне. И это не только движение, это само существование».
Эта больная описывала нечто очень трансцендентное, что-то далеко выходящее за рамки любого контактного рефлекса. Мы видим, что эта контактность носит сугубо музыкальный характер, поскольку музыка сама по себе весьма контактна. До человека надо дотронуться, его надо коснуться, прежде чем он сможет пойти. Наша больная говорит именно об этом — о таинственном прикосновении, таинственной причастности, о двух существованиях. Словом, она описывает чувство причастности и чувство соединения, слияния.
Вероятно, все это звучит неуместно поэтически, но факт такого пробуждения можно легко подтвердить не только клинически, но и физиологически. Я сочетал регистрацию ЭЭГ и видеосъемку, получив прекрасную иллюстрацию пробуждающей и модулирующей силы искусства. Я получил поразительные кадры, снимая таким способом больного Эдда М., который, с одной стороны, страдал акинезией, а с другой — сильным двигательным беспокойством, доходящим до неистовства и буйства (какое бы лекарство ему ни давали, оно лишь вызывало улучшение одной части, причиняя вред и усугубляя выраженность другой).
ЭЭГ отличалась ожидаемой асимметрией. Этот человек — превосходный пианист и органист, и когда он садится играть, его левая сторона утрачивает акинетическую ригидность, а правая — утрачивает тики и хорею; обе стороны начинают двигаться в поразительном и гармоничном единстве. Одновременно исчезает грубая асимметрия ЭЭГ, она становится нормальной и симметричной, как и должно быть в норме. Как только он перестает играть или как только умолкает его внутренняя музыка, клиническое состояние и картина ЭЭГ мгновенно возвращаются в исходное, патологическое состояние (см. с. 480, приложение «Электрическая основа пробуждений»).
У этого больного, как и у всех больных, эта таинственная, странная магия может и не работать. Это обстоятельство, при отсутствии других данных, ясно показывает отличие такого воздействия от воздействия универсального алгоритма, или от формальной процедуры, или от действия лекарств, которые работают всегда, ибо работают механическим путем. Так почему же искусство или личностное взаимодействие иногда работают, а иногда — нет? По этому поводу стоит привести глубокие и проницательные слова Э.М. Форстера: «Искусства — не суть лекарства. Они не обладают гарантированным действием от приема. Перед действием искусства должно высвободиться нечто таинственное и капризное, то, что мы называем творческим импульсом».
Нет сомнения в реальности этого феномена. Но какая реальность вовлечена в процесс? Может ли в самом деле наука разгадать этот феномен, который одновременно реален и не поддается концептуализации? Мы склонны говорить об «оке» науки: есть что-то визуальное и структурное в любом научном построении концепции, в то время как здесь мы имеем дело со слухом, то есть с чем-то исключительно музыкальным и тональным, с чем-то действующим, а не структурным.
Может ли око науки почувствовать истинный характер музыки, ее уникальную силу, способную оживить человека, личность? Даже Кант чувствовал это (скорее всего неохотно) и называл музыку оживляющим искусством. Если же наука вдруг начнет размышлять о музыке, то что она скажет? Она скажет ровно то же, что Лейбниц: «Музыка есть не что иное, как подсознательная арифметика. Музыка есть наслаждение, каковое испытывает человеческая душа от счета, не осознавая, что она считает». Это великолепно, но ничего не говорит нам о смысле музыки, о ее исключительном и неповторимом внутреннем движении, о ее способности к самостоятельному движению, о том, что делает ее убыстряющей, оживляющей и быстрой одновременно. Это определение ничего не говорит нам о жизни в музыке, присущей музыке.
В изречении Лейбница есть глубокая истина: музыке действительно свойствен неосознанный счет. Мы все это чувствуем, и очень живо, когда, например, плаваем или бегаем. Мы начинаем при этом подсознательно считать каждый шаг и каждый гребок, а потом (часто это происходит внезапно, без участия нашего сознания) обретаем чувство ритма и начинаем плыть или бежать в заданном «темпе», сообразно внутреннему музыкальному времени, не прибегая к осознанному счету. Мы перестаем выполнять функцию метронома и перескакиваем к музыке.