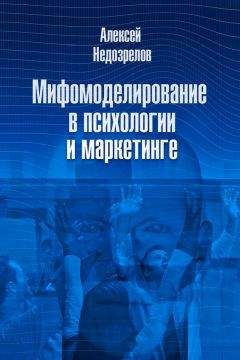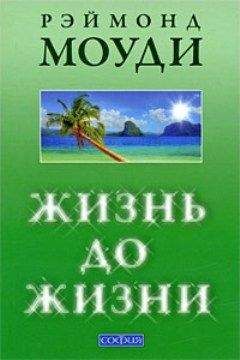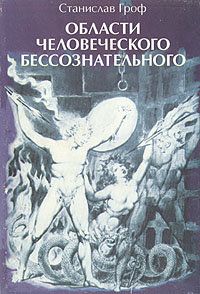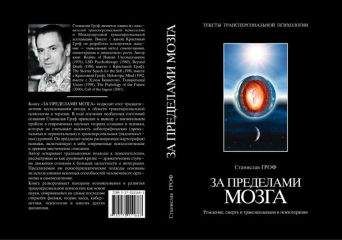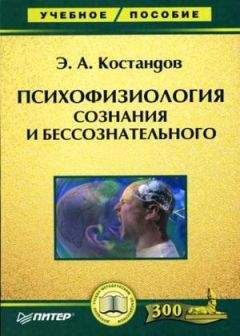Виктор Аллахвердов - Методологическое путешествие по океану бессознательного к таинственному острову сознания
В твоем "ментальном опыте" не звучит сигнал о противоречии, "невозможности" употребления такой терминологии: "...Одно сознание знает лишь, что какая-то из его догадок получила подтверждение..."; "механизм сознания... стремится, способен, желает, искусственно проблематизирует имеющееся знание..."? У меня возникает вопрос: КТО же это знает, желает, способен, стремится – маленький гомункулус внутри мозга? Значит – "мыслит – мышление", "чувствует – эмоция", а "говорит – речь", а не человек? Что конструктивного дает такая персонализация процесса? Не тот ли это самый анекдот про "умную" женщину, у которой в голове маленький телевизор? Ты можешь сказать: "Это метафора". Но что помогает понять эта "метафора"? Эта подмена "Я", самосознания человека его персонализированным процессом создает лишь иллюзию решения.
Конечно, нет ответа на вопрос – "кто такой "Я"?" Может быть, лучше честно признаться: "тайна" – пока не знаем и, может быть, не узнаем. Признали же физики невозможность "вечного двигателя", может быть, им тоже мучительно далось это ущемление профессионального самолюбия?! Мне кажется, замена тайны иллюзией мало приблизит нас к Истине. Признание ограниченности человеческого познания наряду с определенной полнотой и точностью будет примером антиномичного суждения. Понять границу своего познания – не так уж и мало! (Вспомним, чем больше человек знает, тем больше он понимает, чего он не знает.) Поэтому, даже если мы психически "ничего" не знаем о самом сложном психическом феномене – "сознании", то что-нибудь мы все-таки знаем о внутренней жизни человека? Все "вечные", темные проблемы психологии, которые или не решаются, или имеют иллюзию решения, если стоит только задуматься поглубже, о природе психического феномена, ты называешь парадоксами. Твоя книга – это коллекция парадоксов.
Парадоксы ты решаешь с помощью трюков – "изощренной словесной эквилибристики". То, что ты называешь парадоксом, я бы назвала антиномией, формула которой "и... и". Сознание
– и "помнит" о чем-то, и забывает то, о чем "помнит";
– и воспринимает (невоспринятое) и не воспринимает (воспринятое).
Человек и свободен в своем выборе, и выбор его причинно обусловлен (свобода, несмотря на детерминизм).
Борис Нечипоров пишет о том, что во всех правдивых текстах о человеке можно обнаружить не просто сложность, но алогизм, совмещение несовместимого, однако, по его мнению, именно это делает текст понятным и глубоким. Антиномию он понимает как то, что воссоединяет и примиряет полюса оппозиции "тезис – антитезис": человек и прекрасен и уродлив, и глубок и низок, богоподобен и неблагодарная тварь. В христианской антропологии считается, что человека как целостный феномен невозможно описать в терминах "или ... или", а только в терминах "и... и": человек – это и тело и дух, он и детерминирован и свободен, временный и вечный, низменный и возвышенный. Антиномичное описание человека задает контекст его понимания. Антиномия, аналогия, символ – этот язык мне кажется более адекватным, чем язык логики, для описания того целостного феномена, который называется "человек".
Мне хочется выразить надежду, что наш корабль – "III съезд российских психологов" – совершит методологическое путешествие по океану "Плюрализм" и найдет архипелаг "Истина". А мы с тобой, дорогой друг, получим в этом путешествии массу интересных впечатлений!
Лариса Шеховцова, 21 апреля 2003 года
М. В. Иванов – В. М. Аллахвердову
Дорогой Витя!
Я прочел твою новую книгу и испытал большое счастье, к которому так и не могу привыкнуть: то ли твои мысли становятся все совершеннее, то ли я меняюсь...
Но прежде чем перейти к заметкам об этой книге, я хотел бы сказать несколько слов о трилогии, которую она замыкает. "Опыт...", "Сознание...", а теперь и "Путешествие" для меня сыграли огромную роль – роль освобождения мысли. Начиная с 1930-х гг., наша психология покрылась зловещей тенью "единственно верного учения". Силы психологии иссякали, а попытки восстановить ее достоинство вечно упирались в марксистско-ленинское чванство ("там" самые талантливые психологи несли печать ущербности, ибо "не понимали" того, что было ясно простому учащемуся парт-политпросвета). Рассуждения же о безумной сложности психики человека, призывы к созданию фундамента новой психологии с помощью частных, но точных и достоверных разработок, появление новомодных компендиумов совершенно разношерстных теорий – все это следствие дезориентированности нашей прошлой науки о сознании и попытка из песчинок слепить краеугольный камень.
Ты, конечно, ставишь себя под удар, говоря: "А король-то голый!" Но нет другого пути освободиться от узкоспециализированного и компилятивного подхода в психологии. А свобода стоит многого. И многое проясняется. Ведь до сих пор нет ни одного учебника, который бы связно и ясно изложил теоретическую конструкцию психологии в целом. Нет даже попытки его создать. Пусть я не все понимаю в твоих текстах и далеко не со всем согласен, но с твоим колоссальным трудом связываю надежду. Читая твои книги, я проникаюсь убеждением, что именно так надо строить общую теорию психологии.
В твоих книгах слишком ясно заявлено, что многие постулаты психологии – произвольные предположения, которые только на первый взгляд кажутся само собой разумеющимися. Действительно, сколько времени еще нужно, чтобы признать неплодотворность теоретического (именно теоретического) деления психических процессов на ощущение, восприятие, память, мышление и прочие? Однако "слишком ясно" – это значит "слишком смело".
Ты опрокидываешь слишком крупных идолов, чтобы надеяться избежать обиды многих коллег за попранную тобой и близкую им языческую веру. Тебе же обязательно будут задавать вопрос: "А как звучат новые истины?" Ты выходишь со щитом и мечом "в поле незнаемое". Ты рискнул высказаться до конца, зная, что в твоей позиции есть уязвимые места. В этом, по-моему, заключается большое мужество. Легко бравировать, когда защищен со всех сторон. Труднее не соглашаться, когда собственная позиция (пусть и искренняя) несовершенна. Но доводить все до полного совершенства – это обречь себя на вечное молчание, ибо один ум не может решить все стоящие перед наукой проблемы.
И здесь я хотел бы обратиться к, твоему "Путешествию". Ее первая половина критична и, пожалуй, скептична. Словно бы ты хотел выработать у читателя условный рефлекс на отвержение любого здравого смысла: чем больше что-либо похоже на правду, тем меньше оказывается истиной. Обильные примеры и опровержения могут довести до головокружения. Конечно, теория такого сложного объекта, как сознание, не для робких духом. Но неужели же нужно давать информацию "без просвета"? Ты просто перегружаешь читателя "предельными" вопросами. Неискушенный читатель должен себя чувствовать кем-то похожим на жертву чемпиона мира по шахматам Алехина: тот делал резкий ход фигурой и, пока противник думает, коршуном кружил вокруг него. И я не уверен, что здесь проявляется лишь проблема жанра.
Тебе, вероятнее всего, особенно близки англичане – и не уравновешенный Локк, а скорее скептики типа Юма (Беркли не упоминается, но явно чувствуется). Утверждение, что сознание настроено на детерминистское истолкование мира даже там, где проявляется и случайность, явно восходит к Юму. Создается впечатление, что сознание "перемалывает" частично организованный мир в жестко детерминированную картину мира (т.е. не известно, какой действительный мир мифологизируется в сознании в виде упорядоченной модели). Мне детерминистская установка сознания кажется важным элементом психологической теории, но хотелось бы хоть намек услышать: как же при сохранении полезного "детерминистского уклона" избавить сознание от "детерминистских злоупотреблений"? И надо ли все феномены сознания описывать с помощью терминов "головоломка", "парадокс", "начальная ошибка", "карикатура", "ужастики", "игры в логику"?
Не менее значимо и твое обращение к Карлу Попперу. Для него принцип фальсификации является более достоверным, чем принцип верификации. Опровержение сильнее подтверждения. Минус сильнее плюса. В параллель можно поставить и теорию Фрейда, в которой бессознательное (т.е. минус – сознательное) значительно сильнее влияет на (плюс)-сознательное, чем наоборот. Я считаю блестящим достижением твою теорию последействия фигуры и фона, связанные с ней феномены интерференции и эмоциональных реакций. Но пока мне неуютно в том теоретическом мире, где "минусы" тверды, а "плюсы" проблематичны. Может быть, таково следствие установки на исключительно естественнонаучное понимание психологии? Гуманитарная установка больше ценит уютные и тяготеющие к абсолюту образцы устойчивого бытия. Эпопея, волшебная сказка, элегия и идиллия все-таки более значимы в культуре, чем пародия, анекдот, карикатура или "черный юмор". Ведь и психологии известны примеры устойчивого, как бы навсегда данного содержания психического мира личности!