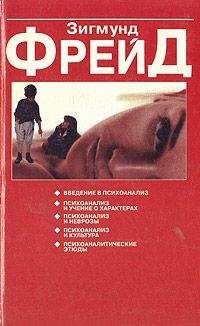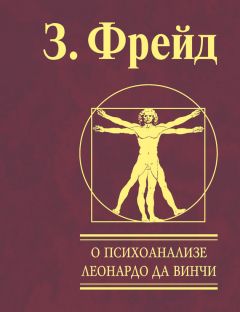Лев Шестов - На весах Иова
Думаю, что теперь нам не будет казаться так странным, что Плотин до пятидесяти лет ничего не писал, а когда начал писать, не перечитывал написанного. И тоже, думаю, будет понятно, почему Порфирий, так близко стоявший к Плотину, его друг и ученик, в этих странностях учителя не мог и не хотел видеть ничего загадочного. Тайна философии открывается только «посвященным». И главная, самая непостижимая тайна, о которой рассказал нам Плотин, по-видимому, в том именно и заключается, что последняя, а может быть, и предпоследняя истина дается нам не как результат методического размышления, а приходит извне, неожиданно — как мгновенное просветление (V, 3, 17, конец). Но если это так, если прав Плотин и философская истина не дается размышлением, то ведь ей и «научиться» никак нельзя. Нельзя ее и проверить. Больше того: нельзя быть уверенным, что она, так же как и те истины, которые даются размышлением, всегда и для всех равна и даже всегда равна для одного и того же человека. Может быть, Плотин, «прикасаясь» или «причащаясь» истине, то видел одно, то видел другое. Правда, об этом Плотин ничего не рассказывает. Даже, наоборот, он говорит так, что можно думать, что дело обстоит совсем иначе, что непостоянство есть признак явлений мира эмпирического, а в мире надэмпирическом все всегда себе равно и перемены там невозможны и недопустимы. Но если бы было так, то почему все слова, все понятия, какие мы имеем в нашем распоряжении, совершенно неприменимы к миру истинно действительному? Ведь после Сократа наши понятия так именно и создавались, как если бы им суждено было выразить собой неизменное, а не изменяющееся. Даже Парменид в знании (επιστήμη) ценил возможность видеть под изменяющимися явлениями неизменную сущность. Платон, как известно, учил тому же. И Плотин, в этом отношении прочно державшийся традиции Парменида и Платона, все изменяющееся считал несуществующим, а существующее — неизменным. Даже то обстоятельство, что он последнее, высшее начало называет «Единым», как будто свидетельствует, что изменчивость в глазах Плотина есть порок, дефект бытия. Как же можно утверждать, что он, постигая или сливаясь со своим «Единым», мог в разное время испытывать разное? Не значит ли это извращать «систему» Плотина?
Спору нет: с системой Плотина все, что я здесь говорю, ладится плохо. Но ведь задача наша вовсе не в том, чтоб найти у Плотина систему. Система — есть επιστήμη (наука), а επιστήμη — есть λόγος (разум). Мы же помним, что последнее устремление Плотина в том именно и состояло, чтоб вырваться из власти логоса. И, быть может, в его писаниях это самая поразительная черта — причем, вопреки Целлеру, в этом его устремлении нужно видеть не разрыв его с древней философией, а, скорее, наиболее полное и смелое выражение заданий, которые ставила себе философия греков и которые, в силу вышеупомянутого закона судьбы или истории, осуществить ей не было дано. И Парменид, и Сократ, и Платон — так же как и Плотин, не добивались ни επιστήμη, ни λόγος'а. Сам Платон, который так прославлял разум, — был, по своей природе, мисологосом. Ибо что такое λόγος, что такое επιστήμη? Что такое та научная философия, в измене которой укоряет Плотина Целлер?
Припомним опять то, что было сказано раньше о теологической и философской истине. Некоторые думают, что средневековье, устанавливая такое разделение, имело тайную мысль — отделаться от теологической истины, чтоб открыть путь "свободному исследованию". Несомненно, между философами средневековья были попытки так использовать учение о двоякой истине. Но, по существу, здесь шло дело об ином. Можно, конечно, тяготиться рамками, в которые тебя ставит принадлежность к определенному исповеданию. Это, однако, вовсе не значит, что свобода от теологической истины приводит челове ка к свободе исследования. Я думаю, что учение о двух истинах имело своим источником мечту о совсем иной свободе, — о той, которую воспевал Плотин.
Теология стесняет человека, она насильно навязывает ему неприкосновенные догматы. Ну, а наука — она разве не связывает? Она от своих догматов (предпосылок) откажется? Она добровольно согласится освободить вас от «закона» противоречия? Она признает, что часть равна целому? Она поступится принципом, что nihilo nihil fit?[176] Или что однажды бывшее можно сделать не бывшим? Нормальный теолог, так уверенно утверждавший, что не может быть столкновения между божеским и человеческим разумом, осуждал людей на двойное рабство — и перед догматами католичества, и пред «истинами» Аристотеля. И те, которые в настоящее время, исходя из мысли о единстве философии и науки, стремятся примирить их меж собой, делают то же, что делал Фома Аквинский, т. е. служат не делу освобождения, а делу порабощения человечества. Наша задача, по-видимому, не в том, чтоб мирить философию с наукой, а ссорить их. И чем напряженнее, чем ожесточеннее будет вражда философии с наукой, тем более выгадает человечество. Я думаю, что если бы Сократ сейчас воскрес, то он почувствовал бы, что ему опять нужно превратиться в «овода», и на этот раз он всю силу своей иронии прежде всего направил бы на тех, которые добиваются мира и доброго лада между философией и наукой. И еще думаю, что его тревога, ввиду господствующих в наше время тенденций, была бы еще более неизбывной, чем в его первую жизнь. И, наверное, пришлось бы ему припомнить учение о двоякой истине, только не затем, чтобы дать «свободу» научному исследованию, а чтоб освободиться от научного исследования. Его демон, которому была дана власть приказывать, ничем не мотивируя свои приказания, потребовал бы от него прежде всего открытого разрыва с научной философией.
VКонечно, уже первым шагом к разрыву была бы решимость Сократа поставить на место логоса и φυσικη ανάγκη (естественной необходимости) своего демона с его загадочным «вдруг». Ему сказали бы, что если каждый человек станет ссылаться на своего демона, то люди никогда меж собой не сговорятся и вместо принудительного единства и обязательной гармонии, о которых он хлопотал в свою первую жизнь, получится нелепый хаос и невыносимая дисгармония. Это возражение 2500 лет тому назад показалось бы Сократу совершенно неотразимым. Может быть, тогда он согласился бы даже отречься от своего демона или хоть припрятать его подальше. Ведь демон и есть та «тревога», которая так отличала Сократа от его современников, да и потомков. Но за две с половиной тысячи лет своего потустороннего, внеисторического существования Сократ, нужно полагать, многому научился. Может статься, в ином мире открылось ему и учение о двоякой истине и еще о том, что даже в нашем эмпирическом бытии истина не может и не хочет быть единой. Или, иначе, что истина не выносит единства — так же, как она не выносит неизменности. Основной предикат потусторонней, т. е. метафизической истины в нашем мире есть то, чего люди больше всего избегают и боятся, — есть изменчивость и связанная с изменчивостью непрерывная тревога. Вот почему — опять скажу — философия никогда не примирится с наукой. Наука добивается «самоочевидности» и в самоочевидностях отыскивает ту естественную необходимость, которая, провозгласив себя премирной, хочет служить основой всякого знания и господствовать над самовластными «вдруг», философия же всегда была и будет борьбой, преодолением самоочевидностей. Она вовсе не ищет "естественной необходимости" — она и в естественности, и в необходимости видит злые чары, которые нужно если не совсем стряхнуть с себя — что, по-видимому, еще ни одному из смертных никогда не удавалось, то хоть назвать их настоящим именем (это тоже уже кое-что значило бы!). Соответственно этому теория познания, поскольку она является философией, если не явно, то втайне стремилась не к оправданию, а к обличению положительного знания. На худший конец все почти философы приберегали хоть какого-нибудь, хоть самого маленького, но самовластного deus ex machina. Даже беспечный Эпикур (как иногда мне кажется, с плохо скрытым злорадством) говорил о чуть-чуть заметном, но произвольном, ни на чем не основанном отклонении атомов от «естественного» направления. И чем глубже и отважнее был философ, тем щедрее прибавлял он к сладкому меду непонятного знания дегтя проблематичности и загадочности. И стоики, которых все привыкли считать материалистами и рационалистами, не только никогда не отказывались от «чудесного», но так же искали чудес и даже творили чудеса, как и другие философские школы.
Я приведу здесь небольшой отрывок из эпиктетовских диатриб, в котором сущность стоицизма выражается гораздо полнее, чем в бесконечных писаниях Сенеки и во всех дошедших до нас стоических рассуждениях. "Вот, поистине, — говорит он, — жезл Меркурия: к чему ты ни прикоснешься им, все обратится в золото. Дай мне что хочешь — я все превращу в добро (ο θέλεις φέρε, καγω αυτò αγαθòν ποιήσω). Дай мне болезни, смерть, бедность, обиды, смертные приговоры — все обратится в полезное посредством жезла Меркурия" (Diatr. III, 20). Так иногда умел говорить Эпиктет, и не только стоики так смотрели на задачи философии. Основная проблема философии всегда была онтологическая. В древности более открыто, в наши дни — тайно, но философы никогда не довольствовались ролью простых «созерцателей», каковыми они слыли среди непосвященных. Они, как Эпиктет, хотели творить чудеса, т. е. из того, что есть самого непригодного, из отбросов жизни, даже из абсолютного ничто, делать самое лучшее, самое ценное. Все знают, что бедность, болезни, изгнание, смерть — есть тот материал, из которого ничего сделать нельзя, — это ведь самая непреложная, самая очевидная истина, оспаривать которую могут либо глупцы, либо безумцы. А Эпиктет, которому, конечно, отлично известно, что думают «все», безбоязненно говорит, что все заблуждаются, и торжественно заявляет, что он обладает жезлом Меркурия, который своим прикосновением превращает самое безобразное и самое страшное — в прекрасное, в "добро"…