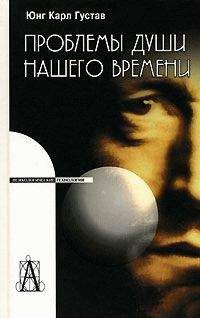Карл Ясперс - Стриндберг и Ван Гог
ПРЕСЛЕДОВАНИЕ И БЕГСТВО
Вновь и вновь появляется у Стриндберга мысль, что его жена хочет избавиться от него и поэтому желает его смерти. Уже в 1882 году у него возникает подозрение, что она его отравила, но только в 1888 он заостряет внимание на этой вспышке подозрений, которая тогда, по-видимому, была лишь мимолетной. Более того, позднее, перетолковывая прошедшее, он выводит, что его жена еще в 1880 году решилась его убить: «Весь их пол приговорил меня к внешнему и внутреннему уничтожению, и моя мстительная фурия взяла на себя неблагодарную и трудную задачу замучить меня до смерти». О 1884 годе: «Она торжествует. Я уже дошел до того, что мне грозит слабоумие: уже появляются первые признаки бреда преследования. Бреда? Почему бреда? Меня преследуют! Так что мое ощущение, что меня преследуют, совершенно логично».
Время от времени Стриндберга охватывает столь сильное беспокойство, давление окружения становится для него столь мучительно, что он ищет спасения в бегстве; он инстинктивно, без ясных идей пускается в путешествия — только чтобы вырваться. Еще в 1882 году он строил планы «ускользнуть из крепости, охраняемой этой мегерой [подругой жены] и моими одураченными друзьями». Он предлагает жене поездку за границу, которая действительно началась в 1883 году и привела к четырехлетнему пребыванию за пределами Швеции. В 1885 году из-за нападок на женский пол в его «брачных историях» на него так обрушились в швейцарских газетах, что пребывание в Швейцарии сделалось для него невыносимым. Но как он видит происходящее? «Продажу моих книг запрещают, и из города в город я бегу, преследуемый, во Францию.
`
`
В Париже мои прежние друзья от меня отступаются и заключают с моей женой союз против меня. Как дикий зверь, которого обложили, я меняю поле битвы и, почти обнищав, дотягиваю до нейтральной гавани в одной облюбованной художниками деревне в окрестностях Парижа». Все это, однако, лишь предвестники. Это напоминающее бегство стремление к уходу только в 1887 году становится несомненным симптомом болезненного процесса. «Чтобы избежать насмешек, окружающих обманутого мужа, я убегаю в Вену». Однако образ возлюбленной преследует его; прежняя любовь вспыхивает вновь. Истосковавшись, он возвращается к ней. «Целый месяц мы прожили в какой-то волшебной весне». Вскоре после этого он едет в Копенгаген разузнавать о ней. Поездка безрезультатна, он вновь возвращается. Через два месяца: «В середине лета я ускользаю в четвертый раз, теперь — в Швейцарию. Но цепь, которой я прикован, не из железа: я не могу ее разбить! Это какой-то каучуковый канат, который растягивается… Я снова возвращаюсь». Вскоре он вновь удирает, на этот раз тайком. Он почти не в силах оторвать себя от жены, которая какими-то чарами притягивает его. На отходящем пароходе он едва не задыхается от рыданий. «Одна-единственная боль охватывает меня и пронзает мне сердце. Я кажусь себе какой-то лоскутной куклой, попавшей в огромную паровую машину… Я словно эмбрион, у которого раньше времени перерезали пуповину… В Констанце я сажусь на поезд… И теперь уже этот локомотив так промывает мне кишки, и мозги, и нервы, и жилы, и все мои внутренности, что в Базель прибывает нечто вроде моего скелета. В Базеле меня вдруг охватывает внезапная страсть вновь увидеть все те места в Швейцарии, где мы с ней останавливались… Я провел неделю в Женеве и неделю в Уши; гонимый воспоминаниями, я переезжал из отеля в отель, не зная покоя, как проклятый, как преследуемый, как Вечный Жид». В конце концов он снова возвращается.
ГОДЫ ПОСЛЕ 1888
Такие случаи, когда болезнь с развитием бреда ревности достигает своего предела, и когда общее состояние больного десятилетиями после этого остается довольно стабильным, встречаются редко. В этих случаях коррекции бреда никогда не происходит, время от времени случаются незначительные вспышки шизофренического характера, но ни новых шубов, ни дальнейшего медленного прогрессирования болезни уже не наблюдается. В большинстве же случаев происходит дальнейшее развертывание болезненного процесса — как это было у Стриндберга. После того как 1887 год определил шубообразное развитие болезни, в последующие годы она медленно, с перерывами прогрессировала, заявляя о себе многочисленными проявлениями, до 1896 года, когда произошел новый острый приступ, превосходивший по своей интенсивности все, что было прежде.
Хотя о разводе Стриндберг всерьез думал уже в 1887 году и хотя уже существовала рукопись «Исповеди», он тем не менее продолжал жить вместе с женой.
В 1881 году Георг Брандес встретил его в Копенгагене. В разговоре Стриндберг оборонил: «Вы, наверное, уже знаете, что мое печальное и забавное супружество окончено?» Вскоре после этого Брандес с удивлением узнает, что Стриндберг, будучи холостяком, намерен снять квартиру из шести комнат, причем объясняет это тем, что у него жена и трое детей. На удивленный вопрос Брандеса он заявляет: «Госпожу Стриндберг я упразднил как жену, но сохранил как любовницу». Замечание Брандеса о том, что, по законам всех стран, она как любовница тут же вновь станет его женой, Стриндберга, кажется, не заинтересовало. В 1889 году жена играет в его одноактной пьесе «Пария» и в «Фрекен Юлии». Стриндберг горд их успехом. Он телеграфирует Ханссону: «Госпожу Стриндберг вызывают 8 раз. Требуют автора. Госпожа Стриндберг произносит речь. Бурная овация». Согласно Оле Ханссону, Стриндберг был ей тогда благодарен. Две недели спустя он снова заводит разговоры о разводе, вновь не возымевшие тогда никаких последствий. Развод состоялся лишь в 1892 году при невыясненных обстоятельствах, да и вообще об этих годах жизни Стриндберга известно немногое. Когда в октябре 1892 года Ола Ханссон в первом выпуске журнала «Zukunft» выступил в защиту Стриндберга, находившегося в крайне тяжелых материальных обстоятельствах, он, среди прочего, писал: «Стриндберг еще цепляется за эту жизнь только ради детей. И этих детей он не видит и не слышит. Согласно шведским законам, он обязан жить в разлуке с ними до достижения ими совершеннолетия, ибо он был вынужден развестись с их матерью».
Состояние Стриндберга в эти годы, очевидно, менялось и часто было тревожным. В январе 1890 года он пишет: «Такое положение, окружение, диета дали мне ощущение некоего тупого покоя, но повторение уже пережитого, вдыхание скверного воздуха, общение с мелкими умами давит и терзает меня… И это время, и эти люди кажутся мне душевно больными». Три недели спустя: «Жалкая во всех отношениях жизнь! Умираешь по частям, и лучше всего живешь во сне». В сентябре 1890: «Я смертельно устал и измотан; чувствую, что пережил последнюю стадию исчезновения иллюзий: что наступил мужской 1'age critique, сорок лет, когда уже все просматривается насквозь, как стекло». «Для меня совершенно невозможно что-либо писать, когда я с утра до ночи в дороге и, потный, грязный и усталый, добираюсь до отеля, чтобы на следующее утро тащиться дальше» (он совершает «Блиц-турне по всей этой великой стране Швеции»). В мае 1891: «С тех пор, как я расстался с тобой, ужасные дни я пережил, ужасные! Когда вчера вечером я уезжал в Рунмар¨ — один! — и вновь увидел эти красные домики и эти зеленые лужайки, где прошлым летом я играл с моими детьми —!!! Да, да, ты! — Я живу в доме, где два года назад жил друг моей юности, утопившийся в пруду, потому что его жена оставила его и забрала с собой его детей. Я спал в той же комнате, где он спал в свою последнюю ночь, и я испытывал такое ужасное — воздействие пруда! Я так ясно видел, как вваливаются в дом неотесанные люди и физически оскорбляют меня, что я зажег свет, прислонил к кровати заряженные ружья и ждал рассвета, который, к счастью, через час наступил. Никогда я так не грезил наяву…»
Ханссон замечает, что в письмах Стриндберга содержание его собственных, Ханссона, ответов вообще никак не отражается. Почерк Стриндберга декоративен, орнаментален, сознательно выработан. «Он кажется легко читаемым, но впечатление обманчиво. Он становится то крупнее, то мельче, словно ты смотришь на него сквозь увеличивающее и уменьшающее стекло. Многие письма кажутся… написанными дрожащей рукой. Иногда Стриндберг пишет небрежно и как бы не отбирая материал, но это бывает редко. Довольно часто содержание заранее рассчитано по размеру бумаги, поправки отсутствуют, все чисто, как в перебеленной рукописи, — на знающих о его огромном несчастье это производит совершенно поразительное впечатление. И время от времени приходят элегантные записочки, выписанные изящнейшим дамским бисером».
ЭВОЛЮЦИЯ БРЕДА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ
В середине восьмидесятых годов Стриндберг решил, что против него как против антифеминиста женщины организовали заговор. Так он истолковал затеянный против него процесс по обвинению в оскорблении религиозных чувств. Хотя это была странная идея, но явного бреда преследования здесь еще нет. Затем он приходит к убеждению, что и его жена участвует в этом заговоре, что его жена хочет сжить его со свету. В момент своего появления эти мысли вызывают у него очень сильное потрясение, но он их очень быстро и забывает, не сделав из них никаких выводов, что характерно для стадии возникновения этой болезни. Потом он подозревает, что его хотят по меньшей мере привести к покорности, сделать зависимым, — это чувство имеет глубокие корни в его натуре, но лишь позднее войдет в качестве содержания в форму болезни. При посещении Брандеса в Копенгагене в 1888 году Стриндберг рассказывает ему, что он только что заезжал в сумасшедший дом «Биструп» в Роскильде попросить у главного врача справку о том, что он не псих. «Я, видите ли, опасаюсь, что мои родственнички замышляют против меня какую-то гадость». Врач предложил Стриндбергу остаться там на несколько недель для наблюдения, поскольку экспромтом он подобное свидетельство выдать не может. От этого Стриндберг отказался. Насколько странным было его недоверие ко всему вообще, показывает его первая реакция на дошедшее и до него достопамятное безумное письмо Ницше. В январе 1889 года он пишет Брандесу: «Ну, я полагаю, наш друг Ницше спятил и, что еще хуже, может нас скомпрометировать, если только этот лукавый славянин не морочит нас всех». В эти годы — после 1888 — у Стриндберга, по-видимому, возникают периодические вспышки идей воздействия. Вот одна из таких историй, которую он впоследствии приводит в «Inferno», относя ее к 1891 или 1892 году. Некий его стокгольмский друг, самолюбие которого оказалось задето одним из романов Стриндберга, приглашает его в гости, с тем чтобы заманить в ловушку и потом отправить в сумасшедший дом. Однако своей видимой покорностью Стриндберг сумел снискать благосклонность этого палача, которого вскоре тяжелые удары судьбы заставили раскаяться в том, что он посмел шутить со стихией («Inferno», 85 ff). Так Стриндберг видит это с высоты своего уже законченного бреда, но основания для этого рассказа, очевидно, были, так как из сообщений Пауля и Ханссона мы знаем о новой вспышке идей преследования в 1892 году. В ноябре Стриндберг приезжает в Берлин; Лаура Мархольм и ее супруг Ола Ханссон, позаботившись вышеупомянутой статьей в «Zukunrt» о средствах для него, теперь заботятся о полезных ему знакомствах. Он приехал, чтобы способствовать успеху своих драм в Германии. Лаура Мархольм на короткое время становится управительницей его судьбы. Однако, по словам Пауля, она руководит им таким образом, что ему вскоре становится страшно. Он живет у Ханссонов. Это длится всего несколько недель, так как Лаура Мархольм («Кошмархольм», как он ее называет) становится для него самой большой преступницей. Она хочет «пожрать» его и весь мужской пол, продемонстрировать на нем ничтожество мужчин, спровадить его в сумасшедший дом. Он бежит от нее сломя голову, не дав себе даже времени собрать вещи, и поселяется, в Берлине же, на свой кошт. Ханссон и сам пишет о непостижимости его поведения; Стриндберг постепенно становится для Ханссонов совершенно невидимым, и по мере его исчезновения люди начинают все больше сторониться Ханссонов. Как-то вечером он — неожиданно и поздно, но все же появился у них: в руках гитара, на губах дружелюбная улыбка, в глазах теплый блеск. Он ходил взад и вперед, временами ударял по струнам, спел несколько куплетов, исполнил несколько танцевальных па. Он принес им две собственноручно нарисованные картины. На следующее утро он исчез. Через некоторое время появился какой-то берлинский посыльный с письменным поручением упаковать и забрать его вещи. Пауль добавляет еще некоторые подробности. «Госпожа Ханссон с самого начала была для него фигурой зловещей. Он едва только сбросил оковы своего брака, неужели теперь он позволит какой-то другой женщине вести себя на помочах? Никогда!.. „Она опасна», сказал он, „она крадет умственную сперму чужих мужчин и выдает ее за плоды ее собственного брака! Сама по себе она непродуктивна, но у нее есть та доведенная до предела способность подражания, которой обладает черная раса… Чтобы представить себя великим исключением, она торжественно провозглашает ни на что не годными прочих пишущих женщин!.. И потом, она же противоречит этой аксиоме о бесплодности пишущих женщин как движущей силе их художничества, поскольку сама произвела на свет ребенка! Воистину дитя тенденции… Я всегда проповедовал женское ничтожество. Поэтому она теперь хочет поработить в моем лице мужской пол и показать, что это мы — ничтожества! Поэтому и появилась эта нищенская статья в «Zukunft»!.. Мир должен получить меня только из ее рук! Я имею право достичь всего только с ее помощью! Она даже хочет свести меня с другими женщинами, чтобы снова вернуть в кабалу… Ей нужно одолеть меня, чтобы… выставить всю мою философию женщины следствием моей мономании! Она хочет помешать миру самому видеть и судить, она хочет постепенно внушить ему, что я безумен, и в конце концов упечь меня в сумасшедший дом…» Он — „в плену» у „госпожи Синяя Борода»». Такие вещи Стриндберг говорит всем знакомым Ханссонов, «выплескивая злобу при каждом удобном случае. Некоторые знакомые остались верны им, многие от них отвернулись». Ханссоны отказались от борьбы, пожертвовали своим только-только укрепившимся положением в Берлине и в следующем году уехали. Отношения Ханссонов с Паулем также были разрушены теми «исполненными ненависти словами», которые нашептал ему Стриндберг и которым Пауль ошибочно поверил. Как-то раз Стриндберг совершенно неожиданно появляется у Пауля: «Все, я окончательно расплевался с этой Кошмархольм!» Он сбежал, бросив свои вещи, из этого «имперского ада», твердо убежденный, что там ему грозила величайшая опасность. «Эта женщина — преступница! Теперь я знаю это совершенно точно! Она вчера выдала себя этой историей с моим письмом Ницше! [Он ошибочно полагал, что Лаура Марльхольм украла у него это письмо. ] Я в последний момент успел вырваться оттуда, а останься — так оказался бы в сумасшедшем доме, и может быть, очень скоро!»