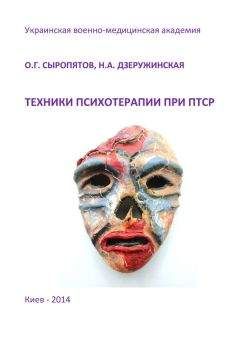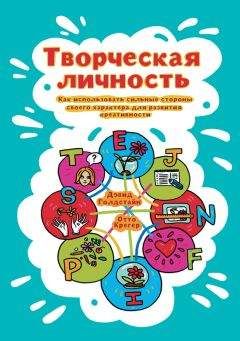Отто Кернберг - Тяжелые личностные расстройства: стратегии психотерапии
Я думаю, что аналитическая установка, проявляющаяся в позиции технической нейтральности – или в постоянном стремлении к ней, – создает оптимальный фон для подхода к пограничному пациенту, основанного на интерпретации. Холдинг, способность “быть матерью пациента” (mothering) или “эмоционально корректирующая” функция в этом контексте (Winnicott, 1960a; Modell, 1976) играет важную терапевтическую роль. Это происходит не просто в силу того, что терапевт таким образом заново создает нормальные взаимоотношения матери и младенца; причины терапевтической ценности этой функции значительно сложнее.
Малер (1971) предположила, что пограничная патология особенно тесно связана с субфазой “раппрошмент” в период сепарации-индивидуации. Это перекликается с моими представлениями о том, что проблемой пограничных пациентов является не недостаточное различение Я и не-Я, но недостаточная интеграция “хороших” и “плохих” Я – и объект-репрезентаций. Основная проблема пограничного пациента такова: он не может достичь удовлетворяющих взаимоотношений любви с объектом, которому можно доверять и на который можно положиться, – при наличии направленной на него агрессии пациента, вопреки пониманию его недостатков, вопреки всем фрустрациям, коренящимся в отношениях с этим объектом, в контексте необходимости переносить боль вины, заботу и благодарность, направленные на объект любви. Чтобы пациент принял близость и понимание терапевта, чтобы он мог положиться на терапевта, ему необходимо принять свою собственную агрессию, зная, что она не разрушит ни терапевта, ни любви к терапевту. Чтобы терапевт мог “держать” пациента, ему нужно принять реальность агрессии пациента и не быть побежденным ею, нужно верить в способность пациента любить, несмотря на трудности в выражении своей любви, и верить, что лучшее будущее для пациента реально возможно, несмотря на все его недостатки.
Так, например, у одного пациента тяжелые ипохондрические тенденции уменьшились в тот момент, когда он открыл в себе способность выражать любовь и заботу своей жене и детям. Чувствуя, что он способен давать, пациент смог принять возможность болезни и смерти в будущем. Прежде он бессознательно воспринимал смерть как окончательный приговор, как будто бы его должна поглотить собственная “злая природа” в пустом и лишенном любви мире. Другая пациентка, женщина с нарциссическим расстройством личности, которая жила тем, что пыталась поддержать свою молодость и спрятать проявления старости, смогла “отпустить себя”, то есть перестала омолаживать свою внешность и приняла процесс старения, когда ее ужасная зависть к молодым уменьшилась и несмотря на зависть, она смогла проявлять подлинный интерес к окружающим ее в повседневной жизни и на работе людям молодого возраста.
Когда пациент позволяет “держать себя”, когда он может положиться на другого человека, это значит, что он “отпускает себя”, сознавая, что любое взаимоотношение несовершенно и рискованно. Чтобы это принять, очень важно не слишком сильно бояться своей агрессии. Когда пациент этого достигает в терапии, мы видим, что он не боится близости с терапевтом, несмотря на то, что эта близость ограничена временными рамками сеанса, кроме того, пациент способен принять тот факт, что у терапевта есть своя жизнь за пределами психотерапии.
Я уже подчеркивал, что терапевту недостаточно быть эмоционально открытым, теплым, интересующимся человеком, способным переносить агрессию, не отвечая на нее контратакой; он всегда должен также сохранять интеллектуальную ясность, проявляющуюся в понимании того, почему он делает тот или иной ход или его не делает. Он также должен реалистично сознавать ограниченную эффективность своих вмешательств.
Терапия пограничного пациента – обычно медленный, неопределенный процесс, где повторяются исследование смысла, конфронтации, проверка гипотез в интерпретации, проработка саморазрушительных черт характера, это не похоже на внезапные озарения или катарсис. Первые, чаще всего слабые, признаки изменения ригидных паттернов характера (таких как злокачественная грандиозность, тяжелый нарциссизм, хронически торжествующий мазохизм, полное отрицание эмоциональной реальности или проявления антисоциальной эксплуатации, порождающие порочный круг) могут быть такими короткими и преходящими, что любая надежда, которую порождают эти ранние признаки изменения, обычно вскоре угасает.
Изменение основных сочетаний интернализованных объектных отношений – процесс долгий и медленный. Вот почему нетерпение при длительной тупиковой ситуации должно сочетаться с огромным терпением относительно того, что в течение долгого времени изменения не происходит (причем сам этот факт надо осознавать). Проявления роста способности любить, заботиться и быть благодарным обычно сложны, порывисты и на первый взгляд незаметны. Ненависть же, напротив, ясна, прозрачна и лежит в четко очерченных границах. Когда пациент, переживающий ненависть к терапевту, становится более четким, ясным, оживленным или даже восторженным, забота о пациенте в такие моменты приводит терапевта к замешательству и даже сбивает с мысли. И тем не менее, эти замешательство и путаница являются свежим материалом для лучшего понимания терапевтом пациента. Ранние стадии “очеловечивания” пациента могут принять хаотичные формы, они полны депрессии и страданий. На долгом пути к пониманию трудности неизбежны.
Ожидание того, что наши растущие знания смогут сократить сроки терапии пациентов с тяжелой патологией характера и пограничными расстройствами, могут оказаться очередной иллюзией относительно процесса, техники и результатов психотерапии. Но возможность после достаточно короткого периода терапии диагностировать основные паттерны переноса, отражающие главные конфликты пограничного пациента в сфере объектных отношений, представляется мне реальным следствием наших растущих знаний об этих пациентах. Такая ранняя диагностика позволит после начального периода психотерапии конкретно ответить на вопрос, какого рода изменений можно ожидать у этого пациента и каковы будут их последствия. В контексте изучения процесса и результатов интенсивной психотерапии, возможно, достоин исследования и этот вопрос.
16. ПАЦИЕНТЫ С СУИЦИДАЛЬНЫМ РИСКОМ: ДИАГНОСТИКА И ПОДХОД
ДИАГНОЗ
Оценить суицидальный потенциал при первоначальном диагностическом исследовании гораздо труднее, если терапевт знаком с пациентом. О степени суицидального риска у пациентов, которые проходят первое диагностическое обследование, позволяют судить следующие факторы: клиническая степень тяжести депрессии, маниакально-депрессивные психозы на фоне пограничной организации личности, а также хроническая тенденция наносить себе повреждения или хроническая склонность к суицидальному поведению как “образ жизни”.
КЛИНИЧЕСКАЯ СТЕПЕНЬ ТЯЖЕСТИ ДЕПРЕССИИ
Чтобы оценить этот фактор, надо исследовать как интенсивность суицидальных мыслей и планов, так степень влияния депрессии на поведение, настроение и мышление. О степени тяжести депрессии можно судить по тому, насколько заторможены поведение и мышление (причем страдает и концентрация внимания) и насколько печаль сменилась пустым замороженным состоянием, сопровождающимся субъективным ощущением деперсонализации. Кроме того, биологические симптомы депрессии (проявляющиеся в изменении аппетита, веса, сна, пищеварения, ежедневного ритма депрессивных чувств, менструального цикла, сексуального желания, мышечного тонуса) дают дополнительную, очень важную информацию о степени тяжести депрессии. Чем тяжелее депрессия, сопровождающая суицидальные мысли и намерения, тем опаснее ситуация. У пациентов с тяжелыми эпизодами депрессии, но без признаков пограничной личностной организации, суицидальный риск особенно выражен на стадии выхода из парализующей депрессии. У пограничных же пациентов, по причине их постоянной импульсивности, риск сохраняется в течение всего периода депрессии. Особую опасность представляет ситуация, когда выражены все три ряда признаков (суицидальные мышление и намерения, депрессивная заторможенность психических функций и биологические признаки депрессии) одновременно.
Степень же выраженности “сценического” поведения – драматическое проигрывание чувств у инфантильной личности – является менее ценным критерием для диагностики тяжести депрессии и суицидального риска. Бывают пациенты с высоким суицидальным риском, которые своим драматическим поведением маскируют от терапевта тяжесть своей депрессии или же с помощью временного обаяния и общей эмоциональной лабильности создают ложное впечатление, что их депрессия не столь серьезна.
При оценке суицидального потенциала у пограничных пациентов меня поражает, насколько бесполезны их сознательные рационализации своей депрессии, с которыми они приходят на первые интервью. Они говорят, например, что их депрессия есть выражение “потребности в зависимости”, осознанного чувства “безнадежности”, потери способности “доверять”, что самоубийство есть “крик о помощи”, и многое тому подобное. В клинической практике не стоит вопрос, чувствует ли пациент “беспомощность” вообще, но к чему конкретно относится эта беспомощность: к получению любви от амбивалентного объекта? К способности контролировать объект или совершить акт мести? Таким образом, вопрос не в том, может ли пациент “доверять” терапевту, – нет причин ожидать, что пациент начнет доверять почти незнакомому человеку, – но в том, хочет ли он честно говорить о себе независимо от чувств, которые вызывает терапевт. Общая черта всех этих тем сводится к потребности оценить вторичные выгоды суицидального поведения, что подводит нас к оценке самоубийства как “образа жизни”.