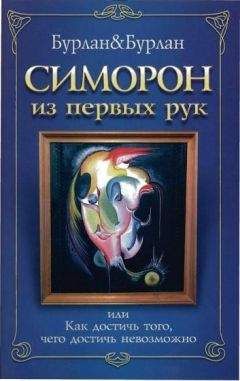Ролло Мэй - Любовь и воля
Некоторые видели основную проблему людей в том, как контролировать свои страсти, как оставаться выше конфликтов жизни. Стоики и эпикурейцы разработали доктрину атараксии, позиции "невозмутимости" по отношению к жизни, бесстрастного спокойствия, достигаемого, особенно в случае стоиков, усилием воли и отказом от обычных эмоций, которые могли бы затронуть человека. Вы должны утвердиться в своем господстве над внешними событиями или, если вы не можете сделать этого, то, по крайней мере, вы не должны реагировать на них. Укреплению силы индивида - vide Римского легионера и правителя - как правило, способствовали убеждения и практика стоицизма.
Но это была сила, обретенная ценой подавления всех эмоций, как положительных, так и отрицательных. Если представить их как попытки психотерапии, школы эпикурейцев и стоиков были во многом сходны. "Обе школы стремились изгнать страсти из человеческой жизни", - пишет Доддс; "идеалом обеих была... свобода от волнующих эмоций, ее можно было достичь, в одном случае, придерживаясь правильных убеждений о человеке и Боге, а в другом - не придерживаясь вообще никаких убеждений".[241]
Эпикурейцы пытались достичь спокойствия ума и тела, разумно уравновешивая свои удовольствия, особую ценность придавая интеллектуальным радостям. Это, казалось, открывало дверь в жизнь полного удовлетворения и приглашало к чувственными радостям. Эпикур "установил границы желанию и страху, - говорит нам Лукреций, - ибо он четко показал, что чаще всего человечество совершенно излишне вздымает штормовые волны беспокойства в своей груди".[242] Но каковы бы ни были их намерения, такой контроль через полагание границ страху (что, заметим, означало также полагание границ желанию) как метод на практике вел к выхолащиванию динамических влечений человека. Один автор того периода даже говорит об эпикурейцах как о евнухах.
Гедонистическая традиция утверждала радость чувственных удовольствий. Но уже тогда гедонисты были близки к пониманию, к чему должны были прийти и гедонисты других эпох, включая нашу, что чувственное удовлетворение, которого ищут ради него самого, оказывается удивительно неудовлетворяющим. Один из учителей этой школы, Гегесий, отчаявшись когда-либо найти счастье, стал философом пессимизма, и Птолемею пришлось запретить его лекции в Александрии, потому что их результатом стало большое количество самоубийств. Это явилось началом того времени, когда учитель или философ "представляет свою аудиторию как бесплатную лечебницу больных душ".[243]
Самой впечатляющей изо всех этих попыток помочь человеку справиться со своим беспокойством является попытка Лукреция. Будучи поэтом и человеком чувствительным к человеческим страданиям, он не мог просто закалить свои чувства до полной невосприимчивости к психологическому и духовному опустошению вокруг себя. Как бы сильно он ни стремился к атараксии, его поэтическая натура не допускала отрешенности и способности к подавлению, необходимых для ее достижения. "Страхи и тревоги, что терзают человеческую грудь, - писал он, - не исчезают от бряцания оружия или неистового дождя метательных снарядов. Они безо всякого смущения пробираются в окружение властителей. Они не преисполнены благоговения ни перед сверканьем золота, ни перед лоском пурпурных мантий".[244]
Он знает, что отчасти это беспокойство обусловлено бесцельностью человеческих жизней.
"Люди достаточно ясно ощущают в своих умах тяжелую ношу, груз которой угнетает их. Если бы они с той же ясностью представляли себе причины этой депрессии, источник этого скопища зла в груди, они не вели бы такую жизнь, которую все мы теперь слишком часто видим - никто не знает, чего он в действительности хочет, и каждый постоянно пытается покинуть то место, где находится, как будто одно лишь перемещение может избавить от этого груза".[245]
Будучи проницательным психологом, а также поэтом, Лукреций добавляет относительно их навязчивых метаний: "Поступая таким образом, человек просто бежит от самого себя". Он продолжает:
"Часто владелец какого-нибудь богатого особняка, умирая от скуки, одолевающей его дома, спешно уезжает лишь для того, чтобы так же быстро вернуться, лишь только он почувствует, что вне дома нисколько не лучше. Он отправляется в свое имение, правя колесницей и погоняя пару горячих коней, как будто спешит спасать охваченный пожаром дом. Но только переступив его порог, он начинает зевать и уныло отправляется спать, ища забвения, или же спешит обратно с визитом в город".[246]
Лукреций с религиозным рвением бросается в разъяснение веры, унаследованной им от своего учителя Эпикура. Он верит, что детерминистское понимание природной вселенной излечит нас от наших страхов и тревог.
"Как дети в сплошной темноте дрожат и всего пугаются, так и нас при ярком свете дня временами угнетают страхи, такие же необоснованные, как и те ужасы, что в представлении детей надвигаются на них из темноты. Этот ужас и мрак в умах нельзя рассеять солнечными лучами, световыми потоками дня, а лишь пониманием внешней формы и внутреннего течения природы".[247]
Лукреций верил, что если он сможет разделаться с богами и мифами и помочь людям прозреть посредством эмпиризма и рационализма, то он совершит необходимый шаг к освобождению людей от их тревоги. Эпикур, наблюдая повсюду вокруг себя образы богов на монетах и в статуях, совершал ошибку многих эмпириков, какой бы наивной эта ошибка ни казалась, считая, что боги действительно являются объектами. Он разрубил гордиев узел, изгнав богов далеко в пространства между мирами, пытаясь избавить этим род человеческий от соприкосновения с ними (не подозревая, что уже к настоящему времени мы будем готовы к путешествию в эти самые пространства!):
"Ибо для самой природы божества необходимо, чтобы оно наслаждалось бессмертным бытием в полной безмятежности, в отдалении и в стороне от наших дел. Оно свободно ото всякой боли и опасности, могущественно в своих возможностях, совершенно свободно от нас, безразлично к нашим достоинствам и равнодушно к нашему гневу".[248]
Лукреций идет дальше своего учителя и пытается всецело развенчать мифы, надеясь таким образом освободить людей от "необоснованного страха перед богами".[249]
"Нет несчастного Тантала, - провозглашает он, - как гласит миф. ... Нет Тития, распростертого навеки в Аду, раздираемого хищными птицами. ... Но Титий здесь, среди нас - этот несчастный, повергнутый любовью, действительно раздираемый хищными птицами, пожираемый терзающей ревностью или разрываемый клыками какой-либо иной страсти. Сизиф также [не божественная фигура, но] живет на виду у всех, сгибается под тяжестью усилий отличиться на своем посту. ... Что ж до Кербера и Фурий, беспросветной тьмы и пасти Ада, изрыгающей отвратительные миазмы, то их нет и вообще нигде не может быть..."[250]
Нет больше Прометея. Ибо "той силой, что впервые спустила огонь на землю и сделала его доступным для смертного человека, была молния".[251]
Таким образом, он же первый относится к этим мифологическим персонажам так, будто его читатели считали их реальными объектами, находящимися в неком месте (но вряд ли можно представить себе Эсхила верящим в это). Затем он психологизирует их - мифы являются просто образными выражениями субъективных процессов внутри каждого человека. Он отстаивает здесь то, что понятно каждому разумному человеку - один полюс мифов действительно лежит в субъективной динамике переживаний человека. Но это только полуправда. Она упускает все многочисленные значения мифа как способа, посредством которого человек пытается понять смысл и прийти к соглашению с вызывающим беспокойство фактом, что он действительно живет в имеющей предел вселенной, в которой феномен Сизифа объективно существует как для здорового, так и для болезненно обеспокоенного человека. Это означает не просто то, что каждый труженик снова и снова корпит над одной и той же работой ("и его судьба не менее абсурдна, чем Сизифова", - как отметил Камю). Это означает, что все мы вовлечены в вечный уход и возвращение, труд и отдохновение - и снова труд, рост и разложение - и снова рост. Миф о Сизифе присутствует в самом моем сердцебиении, в каждом изменении моего метаболизма. Признание мифа как судьбы есть начало обретения смысла в том, что иначе остается бессмысленным фатализмом.[252]
Но в своем страстном стремлении отделаться от мифов поверхностными объяснениями Лукреций сам вынужден приняться за создание нового мифа. Сколь бы ни было в этом иронии, но это судьба всякого, кто занят "мифоклазмом", если говорить словами Джерома Брунера; все они снова оказываются исподволь создающими новые мифы.[253]