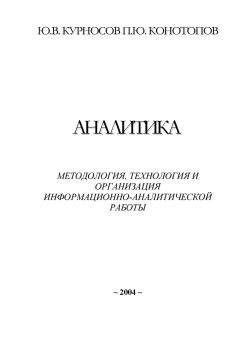Андрей Курпатов - Философия психологии. Новая методология
Но таким образом получается, что часть вещей второго уровня «поднялась» из мира свободной сущности (возможностного уровня), а другая «спустилась» с третьего – мира закономерности. Более того, их теперь практически невозможно отличить друг от друга: и то и другое теперь – носитель некоего субстрата. Причем вещи как свернутые закономерности (особенно «вещи идеальные») не закончили на этом. Например, что такое класс классов? Идеальное создало свой мини-круговорот на гносеологических уровнях мира: какая-то материальная вещь из уровня вещей поднимается на уровень закономерностей, благодаря чему возникает вещь идеальная, далее она оказывается в мире вещей и снова поднимается оттуда в мир закономерностей, и возникает еще одна идеальная вещь, которая опять спускается в мир вещей и т. д. Постоянно происходит «пассаж идеальности», которая все дальше и дальше по содержанию удаляется от мира материальных вещей и наконец становится совершенно самостоятельной.
Но возникает вопрос равнозначности вещи-идеальной и вещи-материальной. Мы строим закономерности, исходя из мира вещей, а вещи эти, как мы уже поняли, подобны игрушкам у ребенка-непоседы – они перепутались. Вот, например, математики договорились о «типовых игрушках» с одной «фабрики» и «играют» себе потихонечку. А что же человек вообще? Фактически ситуация мало чем отличается, но отличие все-таки есть, и оно вот в чем: математики работают только с вещами-идеальными, но каждая из них прошла свой более-менее понятный, контролируемый, проверяемый путь идеального пассажа, в результате математика поражает действительной способностью находить верное решение.
С человеком же намного сложнее, у него больше «игрушек» и они с разных «фабрик», поэтому кроме необходимой вероятности, ориентирующей его в мире, он заручился еще и «мечом», способным разрубить гордиевы узлы – это понятие и механизм «выбора».
Итак, человек – это герой третьего уровня развития познания. Он привнес в логику познавательного акта вероятность, это открыло ему новые фантастические рубежи, но в определенном смысле закрыло то, что лежит у него под ногами. Вероятность и выбор – сложная (особенно в психологическом плане) пара, поэтому ниже мы рассмотрим ее и некоторые ее проявления, поскольку они нарисуют нам характерный образ человека-познающего.
Чудо человеческого познания – это прогнозирование: мы, как нам кажется, «знаем» не только то, что мы будем делать там-то и там-то тогда-то и тогда-то в таких-то и таких-то условиях, но и то, что получится в результате наших действий. Поразительная самонадеянность, надо признать, а причина этого – как раз в оговоренной уже конструкции вероятностей. Нам никогда не бывают и не могут быть известны все факторы, тем более от нас скрыты экстернальные воздействия, но мы вместе с тем самоубежденно утверждаем: «Возможно, мол, это и это, но вероятнее всего будет вот это». Математика разрабатывает целую «теорию вероятности», согласно которой, по данным «вероятностям» (где «вероятность» – это числовая характеристика степени возможности появления какого-либо случайного события при тех или иных условиях) одних случайных событий находят «вероятности» других событий, связанных каким-либо образом с первыми. В результате мы говорим: «на круг» (закон больших чисел) – так-то и так-то, а в каждом отдельном случае – как получится.
Создается огромный иллюзорный мир, поскольку все это иллюзия знания и человеку неизвестно, заснет ли он сегодня в привычное для себя время или он не доживет до этого момента. Вырабатываются «общие» закономерности, все это «подогревает» «остужаемое» практикой убеждение в возможности прогнозирования событийного плана. Люди смеются над прогнозом погоды, но никто не смеется над собой, хотя ситуация совершенно равнозначна.
Псевдо-знание реального положения дел множится, человек купается в допущениях, и в этом ему «помогает» отход от чувствования процесса, абсолютизация состояния в координатах пространства и времени. Так, некая вещь для него, как ему кажется, равнозначна вне зависимости от того, имеет ли он с ней дело сейчас или же это было полвека назад. Но все изменилось за это время настолько, что и речи не может быть о единстве этой вещи сейчас с якобы этой же вещью пятьдесят лет назад.
Вместе с тем такая самонадеянность человека рождает феноменальный каркас мировоззренческой априорности иллюзии знания всего и вся. «Что нового вы можете предложить?» – спрашивает человек, даже не собираясь слушать ответ. Слова (вообще), которые человек так любит и лелеет, придумывает во множестве, потеряли для него какой бы то ни было смысл. Ослаб интерес, поскольку интерес жив только в процессе, когда вы движетесь к неизвестному, а для современного человека нет неизвестного – для него нечто или «известно», или «этого не может быть».
Априорность – фантастический феномен, порожденный человеком на стыке самоуверенности при прогнозировании и иллюзии «всеизвестности» (хроническое deja-vu). Не зря Л. Витгенштейн в середине XX века обращается к человеку с бессмысленными, кажется, вопросами: «Как вы знаете, что у вас есть рука, когда вы ее не видите и не рефлексируете, а сразу отвечаете на поставленный вопрос? Вы только что положили книгу в стол, откуда вы знаете, что она сейчас там?» Поверхностность человеческих суждений удивительна. И Витгенштейн дает нам фундаментальное противоречие, доказывающее абсурдность априоризма, присущего человеческому мышлению. В чем фундаментальность этого противоречия? Когда кому-либо зачитываешь первую его половину: «Из того, что мне – или всем – кажется, что это так, не следует, что это так и есть», всякий пожимает плечами и говорит: «Это всем известно и без Витгенштейна». Однако вторая половина этой цитаты все меняет: «Но задайся вопросом, можно ли сознательно в этом сомневаться».[157] У человека нет собственно логического выхода из гносеологического тупика первой фразы, при сохранной уверенности в том, что она истинна, а это, в свою очередь, открывает дверь в гносеологический тупик.
Вместе с тем магия вероятности продолжает нас преследовать. Хотим мы того или нет, путь из одного состояния в другое на самом деле только один, но воображение человека рисует множество путей, и он оказывается перед выдуманной дилеммой выбора: что бы он ни выбрал, он выберет то, что будет следствием, вне зависимости от того, насколько оно соответствует его собственному выбору.
Зачем человек так стремится выбирать, требует права выбора? Разве это не реализация пустого по сути прогнозирования в интернальной системе? Вы проголосовали за президента, а он оказался совсем не такой, на какого вы рассчитывали. Вы расстроились? Почему? Потому что наивно полагали, что выбираете не какого-то человека, а свою политическую позицию. Буриданов осел – это чисто человеческий феномен.
Страшное слово «выбор» (а за ним – «ответственность», «значимость» и проч.) оказывается той последней каплей, которая лишает человека права на психологическое благополучие и делает его настоящим «человеком». Не просто «человек» – звучит гордо, а «человек выбирающий» – вот что, как мы все полагаем, действительно внушает гордость! Понятие «выбора» мы вкладываем в понятие «личность» – и «личность» начинает просто-таки светиться! И мы почему-то тут же добавляем: «свобода, независимость!» Но какая здесь связь?.. Выбор – это всегда потеря, поскольку, выбирая, мы всегда от чего-то отказываемся, потеря же никогда не бывает безболезненной (ведь нарушается целостность). Болезненность противостоит свободе. Свобода нелепа в сочетании с болезненностью, последняя, по меткому высказыванию О. Вейнингера, – «родственна одиночеству»,[158] вкупе же это – какой-то кошмар одиночества.
Вырисовывается целый арсенал своеобразных, чисто человеческих черт гносеологического толка, и описанные даже наполовину не исчерпывают его. Но откуда это? Если субсубъект «позволяет» себе одно допущение – полагаться на самого себя, то для человека эта ситуация усложняется, он готов не только к тому, чтобы «поверить себе», что фактически предполагает «положиться на самого себя», но и заставить кого-то еще также поверить в это, он становится таким образом «трисубъектом». К такому утверждению у нас нет и не может быть непосредственных оснований, но есть один патогномоничный симптом-следствие, подтверждающий эту версию, – язык.
Язык – это чисто человеческий феномен, и если речь – это способ самовыражения, то язык – это всегда для кого-то, именно поэтому уже сам по себе он несет необходимость убедительности, иначе в нем не было бы никакого толка. Социальность, в необходимом ее понимании, рождается именно с языком, вместе же они представляют собой взрывоопасную смесь. Эволюция субсубъекта заключается далеко не в обретении знания как таковом (доказательством тому XX век, когда количество знания увеличилось во множество раз, а эволюционный аспект не впечатляет) и не в способах познания как таковых, а в механизмах, стимулирующих ассоциативность мышления. Язык и социальность, полноценно возможная лишь при наличии языка, – как раз-таки эти механизмы.