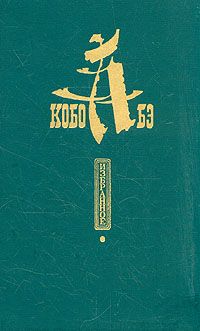Лорин Слейтер - Открыть ящик Скиннера
— Он имел подход к детям, — говорит Джулия. — Он их любил. Наша мать… — Но фразу она не договаривает. — А папа… папа делал для нас воздушных змеев, замечательных змеев, которых мы запускали над Монхеганом. А еще он каждый год водил нас в цирк, а нашу собаку, Хантера, научил играть в прятки. Он мог научить животное чему угодно, так что Хантер играл в прятки, и это было замечательно… А змеев мы делали из дощечек и бечевки, и они летали высоко в небе.
— Так что для вас, — говорю я, — он был самым замечательным отцом.
— Да, — отвечает Джулия, — он точно знал, что нужно ребенку.
— А как насчет… — говорю я, — всей той критики, которую вызвали его работы? Джулия смеется, хотя этот смех больше похож на лай.
— Я сравниваю его с Дарвином, — говорит она. — Люди отвергали идеи Дарвина, потому что боялись их. Идеи моего отца тоже пугают, но они не менее велики, чем открытия Дарвина.
— Вы согласны со всеми идеями своего отца? — спрашиваю я. — Вы согласны с тем, что мы — просто автоматы, что мы лишены свободы воли, или вы думаете, что он сделал слишком далеко идущие выводы из экспериментальных данных?
Джулия вздыхает.
— Знаете ли, — говорит она, — если мой отец и сделал в чем ошибку, так это в том, какие слова выбирал. Люди услышали слово «контроль» и сочли его фашистом. Если бы отец сказал, что люди получают информацию от окружающей среды или что окружающая среда их вдохновляет на определенные поступки, никаких проблем не возникло бы. Что касается моего отца, — продолжает Джулия, — истина заключается в том, что он был пацифистом. Еще он защищал права детей. Он не верил в пользу каких бы то ни было наказаний, потому что на примере животных убедился в их бесполезности. И еще мой отец добился отмены смертной казни в Калифорнии, но об этом никто не вспоминает.
Никто не вспоминает, — повышает голос Джулия, начиная сердиться, — что отец отвечал на каждое приходившее к нему письмо, в то время как эти гуманисты, — она практически выплевывает слово, — эти так называемые гуманисты, представители школы «У меня все о’кей, у тебя все о’кей», даже не берут на себя труд отвечать своим поклонникам. Они слишком заняты. Мой отец никогда не оказывался слишком занят, когда люди обращались к нему.
— Нет, нет, конечно, — говорю я, чувствуя некоторый страх. Голос Джулии звучит слишком напряженно, она слишком страстно защищает своего дорогого папочку.
— И позвольте сказать вам еще кое-что, — продолжает Джулия, и по ее тону я понимаю, что сейчас прозвучит важный вопрос, вопрос, который поставит меня на место. — Вот скажите мне, только честно…
— Обязательно, — отвечаю я.
— Вы хоть читали такие его работы, как «За пределы свободы и достоинства», или вы тоже из тех ученых, которые пользуются вторичными источниками?
— Ну… — начинаю я заикаться, — поверьте, я читала многие работы вашего отца…
— Верю, — перебивает она меня, — но как насчет «За пределы свободы и достоинства»?
— Э-э… нет, — мямлю я. — Я интересовалась его чисто научными публикациями, а не философскими.
— Нельзя разделить науку и философию, — говорит Джулия, отвечая на тот вопрос, который я уже задавала себе. — Так вот вам домашнее задание. — Теперь ее голос звучит, как голос матушки, тетушки или старой учительницы — спокойно и тепло. Я снова слышу «чоп-чоп» — нож режет картошку и морковку. — Выучите свой урок, и тогда поговорим.
В тот вечер, уложив дочурку спать, я берусь за потрепанный томик под названием «За пределы свободы и достоинства» — сочинение, которое я относила к тоталитаристским текстам вроде «Майн кампф»; они стоят на моей книжной полке, но прочесть их я никак не удосуживаюсь.
«Ситуация постоянно ухудшается, и приводит в уныние то, что все большая вина за это ложится на технологию. Улучшение санитарных условий и успехи медицины сделали особенно острыми проблемы контроля над численностью населения. Войны стали особенно разрушительны с изобретением ядерного оружия, а бездумная погоня за удовлетворением потребностей в ответе за загрязнение окружающей среды».
Хотя это было написано в 1971 году, я вполне могу себе представить, будто читаю речь Альберта Гора или недавнее заявление партии зеленых. Не спорю: дальше Скиннер говорит некоторые вещи, которые вызывают тревогу: «Поставив под вопрос контроль, который осуществляет над своей жизнью отдельный человек, и показав роль влияния окружающей среды, наука о поведении тем самым подвергает сомнению концепции достоинства и значимости человека». Однако такие высказывания тонут в чисто прагматических рассуждениях. Скиннер недвусмысленно пропагандирует социальную политику, основывающуюся на собственных экспериментальных данных. Он призывает нас оценить несомненный контроль (или влияние) окружающей среды и придать окружающей среде такой вид, чтобы она осуществляла «позитивное подкрепление»; другими словами, Скиннер призывает поощрять адаптивное и креативное поведение граждан. Он советует обществу создавать такие стимулы, которые заставляли бы нас проявлять лучшие свои качества и подавлять те, которые ведут к деградации (как в тюрьмах и трущобах). Скиннер предлагает отказаться от наказаний, от унижения. Кто мог бы с этим спорить? Так не стоит ли отказаться от риторики, подменяющей честные намерения трескучими фразами?
В книге Скиннера написано: «Главная беда нашего века — не тревожность, а войны, преступность и другие напасти. Чувства — это побочный продукт поведения». В сказанном — суть скиннеровского многократно критиковавшегося антиментализма, его убеждения, что следует обращать внимание не на разум, а на поведение. На самом деле это не отличается от любимого изречения вашей матушки: «Дела говорят громче, чем слова». По мнению Скиннера — и последователя «Нью Эйдж»[14] Нормана Казинса, — когда мы действуем подло, наши чувства становятся чувствами подлецов, а не наоборот. Согласны вы с этим или нет, такую позицию едва ли можно назвать антигуманной. В равной мере нельзя считать, когда Скиннер пишет о том, что человек существует в неразрывной связи с окружающей средой и никогда не может быть от нее свободным, будто он этим налагает на человечество сковывающие его цепи (как это было воспринято многими); речь идет просто о серебристой паутине, связывающей нас со всем на свете. Я видела, как Джером Каган залез под стол, уверяя меня, что проявляет свободную волю и способен существовать независимо от окружающей среды; может быть, он действовал, опираясь на сомнительную патриархальную традицию. С точки зрения Скиннера, мы все связаны друг с другом и должны нести ответственность за соединяющие нас веревочки. Попробуйте сравнить такую позицию с мнением современной феминистки Кэрол Гиллиган, считающей, что мы живем в сетях взаимозависимости, и женщины понимают и уважают это обстоятельство. И Гиллиган, и все феминистски настроенные психотерапевты утверждают, что мы вовсе не совершенно независимы, а состоим в родстве, и что пока мы не примем соответствующую картину мира и не создадим мораль, основанную на этом неоспоримом факте, общество будет продолжать разрушаться. Откуда Гиллиган, Джин Бейкер Миллер и другие феминистки почерпнули свои теории? В их работах таится дух Скиннера; может быть, его следует считать первым психологом-феминистом или все психологи-феминисты являются тайными скиннерианцами? В любом случае мы воспринимали Скиннера слишком упрощенно. Похоже, мы сильно ограничили его в свободе, прежде чем ему удалось поместить нас в свой ящик.
Джулия, приехавшая по делам в Бостон, приглашает меня посетить старый дом Скиннеров на Олд Ди-роуд в Кембридже. Я приезжаю туда чудесным весенним днем; сады полны цветущей сирени. Джулия оказывается пожилой женщиной, гораздо старше, чем я ее себе представляла, с тонкой прозрачной кожей и зелеными глазами. Она впускает меня в дом. Этой есть жилище Б. Ф. Скиннера, куда он возвращался после долгих часов в лаборатории, где изучал удивительную пластичность живых существ, наши связи с обществом и все их разнообразные проявления. Оперантное научение — сухое и холодное название для концепции, которая в действительности может означать, что мы — одновременно скульпторы и скульптуры, художники и картины, несущие ответственность за собственное творение.
Дом по-прежнему принадлежит семье Скиннера. В настоящее время в нем живет внучка Б. Ф., Кристина, которая, как сообщает мне Джулия, является закупщицей для «Файлинс»[15]. Кухонный стол завален каталогами, фотографии моделей в черных кружевных трусиках соседствуют со старыми снимками Павлова и его пускающей слюни собаки.
Джулия ведет меня в кабинет своего отца, откуда больше десяти лет назад его забрали в госпиталь, где он и умер. Открывая дверь, Джулия говорит: