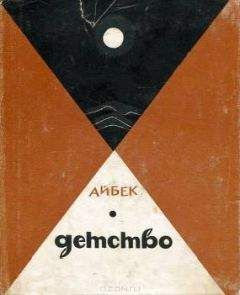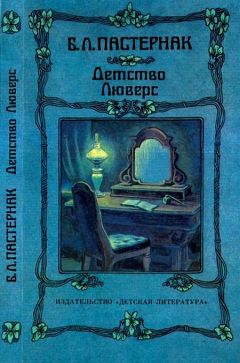Эрик Эриксон - Детство и общество
Я попросил его постараться преодолеть отвращение к гневу и перечислить то, что раздражало его, пусть даже немного, в течение всего времени, предшествовавшего нашей беседе. Он назвал: звуки звонких поцелуев; высокие голоса, такие как у детей в школе; визг покрышек; воспоминание о стрелковой ячейке, полной муравьев и ящериц; плохую еду на флоте США; последнюю бомбу, которая разорвалась довольно близко; недоверчивых, подозрительных людей; ворующих людей; самодовольных людей, «независимо от национальности, цвета кожи и вероисповедания»; воспоминание о матери. Ассоциации пациента привели от металлических звуков и других военных (в узком смысле слова) воспоминаний к воровству, недоверию и к... матери.
Как выяснилось, он не видел мать с четырнадцати лет. Тогда их семья находилась на грани экономического и морального падения. Он порвал с семьей внезапно, когда мать, в припадке пьяного гнева, навела на него револьвер. Вырвав револьвер, он сломал его и выбросил в окно. А затем ушел из дома навсегда. Добился тайной помощи по-отечески относившегося к нему человека, в действительности, своего патрона. В обмен на покровительство и руководство дал обещание не пить, не ругаться, не позволять себе сексуальной распущенности и... никогда не прикасаться к оружию. Стал хорошим студентом, затем - хорошим учителем и притом исключительно спокойным человеком, по крайней мере внешне. Так было до той ночи на тихоокеанском береговом плацдарме, когда среди нарастающей ярости и паники солдат командир, бывший для нашего санитара отеческой фигурой, разразился грубой бранью, и когда вслед за этим кто-то сунул нашему будущему пациенту в руки автомат.
Существовало множество такого рода военных неврозов. Их жертвы находились в постоянном состоянии потенциальной паники. Они чувствовали себя атакованными, либо ожидающими атаки со стороны внезапных или громких звуков, а также симптомов, вспыхивавших в их телах (сильных сердцебиений, волн лихорадки, головной боли). Однако столь же беззащитными оказывались они и перед лицом собственных эмоций; по-детски искренний гнев и безосновательная тревога провоцировались всем, что было слишком неожиданным или слишком сильным: восприятием и чувством, мыслью и воспоминанием. Значит, у этих людей поражена система скрининга, то есть способность не обращать внимание на множество стимулов, которые мы воспринимаем в каждый определенный момент, но умеем не замечать ради того, на чем сосредоточены. Что еще хуже, эти мужчины не могли глубоко заснуть и видеть здоровые сны. Долгими ночами они застревали между Сциллой раздражающих звуков и Харибдой тревожных сновидений, которые тут же выводили их из наступавшего в конце концов состояния глубокого сна. В дневное время они обнаруживали, что не могут вспомнить некоторых вещей; могли заблудиться в своем районе или заметить вдруг, что в разговоре с другими невольно исказили факты. Иначе говоря, не могли полагаться на те типичные процессы функционирования эго, посредством которых организуются пространство и время и проверяется истинность.
Что же случилось с ними? Были ли это симптомы физически ослабленной, соматически поврежденной нервной системы? В некоторых случаях такое состояние, бесспорно, начиналось с подобных повреждений или, по крайней мере, с кратковременной травматизации. Чаще, однако, чтобы вызвать действительный кризис и придать ему устойчивость, требовалось сочетание нескольких факторов. Только что изложенная история морского пехотинца содержит в себе все эти факторы, а именно: падение боевого духа отряда пехотинцев и постепенное нарастание паники вследствие сомнений в командовании; полная скованность огнем невидимого противника, которому они не могли ответить; стимул «сдаться» больничной койке и, наконец, спешная эвакуация и продолжительный конфликт двух внутренних голосов, один из которых твердил: «Не будь простофилей, дай им доставить тебя домой», тогда как другой возражал: «Не подводи ребят. Раз они могут справиться с этим, то и ты можешь».
Что меня больше всего поражало, так это утрата такими больными чувства идентичности. Они знали, кто они, т. е. обладали личной идентичностью. Но дело обстояло так, как если бы, субъективно, жизнь каждого из них больше не была (и никогда не стала бы снова) связной. У них имело место серьезное нарушение того, что я начал тогда называть идентичностью эго. Здесь достаточно будет сказать, что чувство идентичности обеспечивает способность ощущать себя обладающим непрерывностью и тождественностью, и поступать соответственно. Во многих случаях в истории нервного расстройства в решающий момент происходила безобидная на вид вещь, такая как появление автомата в нежелающих этого руках нашего санитара. В данном случае автомат оказался символом зла, угрожавшего принципам, с помощью которых данный конкретный человек пытался охранять личную целостность (personal integrity) и социальное положение в своей мирной жизни. Кроме того, тревога часто вспыхивала от внезапной мысли, что сейчас следовало бы быть дома, покрасить крышу или оплатить тот счет, встретиться с этим боссом или позвонить той девушке; и от приводящего в отчаяние чувства, что всего этого, чему следовало бы быть, уже никогда не будет. А это, по-видимому, в свою очередь существенно переплетается с одной стороной американской жизни, которая будет полностью рассмотрена позднее. Имеется в виду, что многие наши молодые мужчины сохраняют жизненные планы и собственную идентичность опытным путем, следуя принципу, подсказанному ранним периодом американской истории. Согласно этому принципу, мужчина должен иметь, сохранять и защищать свободу следующего шага, право сделать выбор и воспользоваться случаем. Разумеется, американцы тоже остепеняются, и каждый занимает свою социальную «нишу» в полном смысле слова.
Но и такая оседлость по убеждению предполагает уверенность в том, что люди могли бы переместиться, если бы захотели, в географическом, социальном или в обоих измерениях сразу. Имеет значение именно свобода выбора и убежденность, что никто не властен тебя ограничивать или помыкать тобой. Поэтому контрастирующие символы - владения, положения, одинаковости и выбора, изменения, вызова - становятся для всех важными. В зависимости от непосредственной обстановки эти символы могут обернуться благом или злом. Для нашего морского пехотинца оружие сделалось символом падения его семьи и представляло все те скверные, совершаемые в гневе поступки, которых он решил себе не позволять. Таким образом, снова три одновременных процесса, вместо того чтобы поддерживать друг друга, по-видимому, взаимоусугубили присущие им опасности.
(1) Группа. Эти солдаты как группа с определенной идентичностью в вооруженных силах США испытывали необходимость успешно овладеть положением. Вместо этого недоверие командованию вызвало панический ропот. Наш санитар сопротивлялся панике, на которую вряд ли мог не обратить внимания, благодаря защитной позиции столь часто занимаемой им в жизни - позиции спокойного и терпимого руководителя детей.
(2) Организм нашего пациента боролся за сохранение гомеостаза под воздействием подпороговой паники и проявлений острой инфекции, но был внезапно выведен из строя сильной лихорадкой. Вопреки этому морской пехотинец держался из последних сил благодаря «убеждению», что мог «справиться со всем».
(3) Эго пациента. Под тяжким бременем групповой паники и нарастающей лихорадки, которым санитар вначале не собирался уступать, его душевное равновесие было нарушено из-за утраты внешней поддержки внутреннего идеала; те самые командиры, которым он доверял, приказали ему (или он так думал) нарушить символическую клятву, служившую весьма ненадежной основой самоуважения. Несомненно, случившееся открыло шлюзы инфантильным побуждениям, которые он так строго удерживал в состоянии напряженного ожидания. Ибо при всей его стойкости только часть личности этого человека была подлинно зрелой, тогда как другая часть поддерживалась рухнувшими теперь подпорками. В таких условиях он не мог вынести бездеятельности под бомбежкой, и что-то в нем слишком легко уступило предложению эвакуироваться. В этот момент ситуация изменилась, поскольку появились новые осложнения. Будучи эвакуированными солдаты чувствовали себя как бы бессознательно обязанными продолжать страдать, причем телесно, чтобы оправдать собственную эвакуацию, не говоря уже о последующем увольнении в отставку, которую часть из них никогда не могла бы себе простить под предлогом «какого-то там невроза».
После первой мировой войны резко возросло значение невроза компенсации, то есть невроза, бессознательно затягиваемого с целью обеспечить непрерывную финансовую помощь. Опыт второй мировой войны потребовал понимания того, что можно было бы назвать неврозом сверхкомпенсации, то есть бессознательным желанием продолжать страдать, чтобы психологически с избытком компенсировать свою слабость, вынудившую подвести других; ибо многие из тех, кто стремился уйти от действительности, были более преданными людьми, чем сами о том подозревали. Наш совестливый санитар тоже неоднократно испытывал, как его голову «прошивала» мучительная боль всякий раз, когда он выглядел определенно лучше, или, точнее, когда он сознавал, что какое-то время чувствовал себя хорошо, не обращая на это внимания.