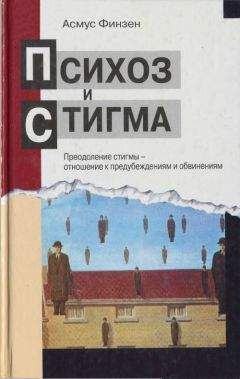Александр Данилин - Ключи к смыслу жизни
Человеческое поведение на празднике это всегда отрицание правил и норм. Праздник это суд повседневного бытия, его отрицание и приговор. Во время праздника мы дискредитируем, снижаем, переворачиваем общепризнанные ценности. Королем наших праздников является анекдот, очень часто грубый, «плоский» и почти всегда политический, опровергающий то, что общепринято в данный исторический период в жизни страны.
Обратите внимание: во время праздника практически все мы чувствуем, что это необходимо, поскольку праздничное переворачивание ценностей — это их проверка на истинность. Если ценности не выдерживают подобного испытания на прочность, значит, они с самого начала были ложными.
Впраздникичеловекотпускаетсебянасвободу.онуходитвсвобод-ньшпоискновогобытия,поэтомулюбойпраздник--это<<праздник непослушания»: детское озорство, а порой и хулиганство являются попыткой проявления индивидуальности, которая противопоставляет себя серьезности и обыденности повседневного мира.
Для взрослого человека смешение времени праздника и времени будней недопустимо. Ребенок склонен всеми доступными средствами в любой момент времени превращать свое бытие в праздник, то есть в игру.
«Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное» (Матф. 19, 14).
Праздничный мат, беспричинный и безадресный, можно оценить как отрицание всей опостылевшей реальности, то есть как последнюю попытку человека, разучившегося играть, отринуть все, от чего он зависел и прорваться к смыслу собственной жизни — к смыслу, не обусловленному его повседневным существованием.
Праздник—это стихия игры. Попытки «прорыва» делают праздник опасным для устойчивости общественных норм — ведь большинство норм современного общества это нормы искусственные. Они не выдерживают праздничного «испытания на прочность». Поэтому общественные лидеры (разумеется, каждое общество достойно своих лидеров) пытаются подменить праздник развлечением. Еще бы! Ведь только они знают, как надо развлекаться...
Но, как это ни печально, лидеры оказываются правы, потому что в любой момент праздника возможен бунт. Искренне играя или празднуя, человек уже бунтует — бунтует против всего старого, отжившего, надоевшего. Праздник это проявление нетерпимости к несовершенству социального бытия, отрицание власти профанного мира, отказ повиноваться чужой воле, так как любой приказ во время праздника кажется преграждающим путь счастью и свободе.
Поэтому праздник приветствует поведение, «неприемлемое в общественных местах». Почему-то наши праздники всегда оказываются на грани преступления. Сам праздник — это уже преступление — переступание через все одобряемое, рекомендуемое или общепринятое. Праздник — это преступление против самоуверенной дури социального мира: против мнимой самодостаточности социальной реальности. С точностью до наоборот, отсюда следует, что и всякое преступление, в некотором смысле — праздник. Преступление это естественное следствие желания быть магом, того, что в первой главе мы назвали счастьем. В основе преступления лежит все та же мысль: «хочу, чтобы у меня все было, но ничего мне за это не было». Или: «все должно быть по-моему».
Мы все знаем по опыту: в неумолимой логике празднования Дня десантных войск преступление неизбежно. Столь же неизбежным оно стало в дни празднования побед футбольных команд.
В потенциально преступный момент апофеоза или «апофигея» праздничной игры метафора сатаны и становится жизненно необходимой человеку.
Кто-то или что-то должно остановить заигравшегося.
В пределе ощущения счастья, то есть все той же гордыни и самовластия, перед внутренним взором должен возникнуть мрачный угрожающий образ того, в кого человек пытается превратиться. В миг преступления становится абсолютной реальностью мысль Св. Григория Нисского: дальнейшая жизнь преступника грозит превратиться в небытие.
Как ни странно, мы можем привлечь этот же образ, для того чтобы понять, что происходит с нашим представлением о счастье. Праздник становится преступлением из-за нашего желания стать магами, то есть манипулировать реальностью, в соответствии с собственными прихотями. В глубине этого желания скрывается представление о мире сатаны. Если я в своем самовластии хочу манипулировать миром, это значит, что я чувствую мир, как нечто механическое, чужое и враждебное. Только с таким миром можно делать все, что заблагорассудится.
Это чувство превращает праздник в оргию. Подобное представление о счастье говорит о том, что человек, мечтающий о нем, ни во что не верит, никому не доверяет и не уверен в себе самом. Он не уверен в том, что его личность представляет собой хоть какую-то ценность, потому что нуждается в доказательстве своего превосходства. Он не верит в свои силы и чувствует себя песчинкой, потерянной в страшном и чуждом мире. Такой человек не может верить в целесообразность и разумность мироздания. Свое призвание или свой долг он начинает воспринимать как страдание или наказание. Этот набор чувств и есть результат убийства Бога в душе.
Когда-то, бесконечно давно, праздник мог быть только священ-ным ритуалом. Ритуал отправлял участника празднества в Священное Время и Священное Пространство религиозного предания разных народов и культур. Священный ритуал выступал той формой, в которую человек мог залить свое ожидание встречи с гениальностью или смыслом собственной жизни. В эпоху «смерти богов» форма исчезла, из механизмов, ограничивающих возможность преступления, остался только один. Это отсутствующий в догмате веры и в реальности, суеверный, по своей сути, образ дьявола.
Что делает Воланд в «Мастере и Маргарите»? — он ограничивает преступления тех, чье самомнение и самовластие преступают даже установленные им, Воландом, границы. Многие из нас — из поколения людей, с юности влюбленных в великий роман Булгакова, в тайне сожалели о том, что Воланд — лишь образ, созданный гениальным писателем. Мы жалели о том, что реальный Воланд так и не посетил реальную Москву. В наши дни это тоже никому бы не помешало...
Воланд у Булгакова — это поразительный образ трикстера, наделенного властью. Трикстер присутствует в большинстве мифологических систем. Это — антигерой: лжец, шут, обманщик и сквернослов. Он противник героя, самозванец. Пытаясь подменить героя, он присваивает себе его славу и пользуется плодами его подвигов.
Но для читателя мифа трикстер — это Альтер-эго героя, его второе Я, темная сторона его души. Герой не любит трикстера, но как будто не может него обойтись: таковы отношения Иешуа и Воланда в романе «Мастер и Маргарита». Образ трикстера необходим не только для того, чтобы оттенить положительные качества Иешуа.
Воланд выполняет свою, вполне самостоятельную функцию. Это — главная функция трикстера в мифологии: он разоблачает, буквально раздевает (вспомните сцену в варьете), все ложное, для того чтобы могла утвердиться истина. Его функция — праздничная. Он должен разрушить все ненужное и отжившее, чтобы освободить место для нового творения.
Подобную роль выполняет Шива в триаде Брахма — Вишну — Шива. Эту же роль играет, по всей видимости, в Новом Завете Иуда Искариот: обнажая главные беды человеческие, он дает возможность Промыслу свершиться. Именно так видели образ Иуды Максимилиан Волошин и Леонид Андреев. Иногда подвиг почти неотличим от преступления, точнее говоря, их можно различить только спустя длительное время после событий.
Образ сатаны работает как напоминание всем, заигравшимся в самовластие, о том, что Бог существует. Остается только сожалеть, что в мире, который считает своих богов мертвыми, этот образ не поднимается ни перед глазами тех, кто в пьяном праздничном угаре замахивается ножом на своих близких, ни перед глазами тех, кто в угаре собственной гордыни обрекает на смерть миллионы. Разница между ними всего лишь в словах: одни хотят почувствовать, что они «имеют право», а другие убеждены, что они «знают как надо», то есть знают, что нам с вами нужно для счастья. Это одно и то же, только масштаб опьянения мыслью, которая когда-то охватила падшего Денницу, разный.
Если забыть о Боге, связь с его лучом в «точке Розанова» все равно прервется. Она окажется заполненной... самим собой — «носителем абсолютной истины». Все окружающие люди в этой ситуации будут казаться менее живыми, чем я сам. А если они — нежить, то вряд ли есть смысл ценить их жизни.
Игра люциферовой мысли в человеческих головах оказывается прихотливой. Я убежден, например, что недоучившийся семинарист Иосиф Сталин считал себя воплощением сатаны или, по крайней мере, Антихристом Нового Завета. Я думаю, что он сказал об этом великому неврологу Владимиру Бехтереву, что и послужило поводом для его знаменитого диагноза — «паранойя». Дело в том, что для того, чтобы поставить такой диагноз, Бехтереву нужно было столкнуться с какими-то фантастическими представлениями пациента о себе самом. Мысли о том, что Сталин — великий вождь, было явно недостаточно, ведь Коба уже был таким вождем в реальности. Может быть, что-то похожее пытался подсказать Сталину и Булгаков, который писал о преступной справедливости сатаны.