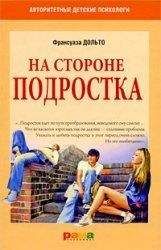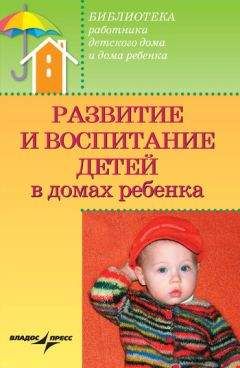Франсуаза Дольто - На стороне ребенка
Я думаю, что в этом и состоит нескончаемая драма детства: с самого начала жизни являясь существом, испытывающим желание, ребенок поддается соблазну желания подражать родителю, который, со своей стороны, счастлив, когда ему подражают. Вместо того чтобы позволить ребенку день ото дня проявлять все больше инициативы и развиваться в направлении поисков себя согласно своему собственному желанию, взрослый воображает, что если он, взрослый, подчинит ребенка себе, ребенок избежит многих трудностей и многих опасностей. Почему бы нам не вдохновиться примером соматической медицины? Существуют прививки от разных болезней; если бы можно было с самого раннего возраста делать детям прививки против подражания и пагубных идентификаций! Но ребенку приходится через это пройти просто потому, что он мал, интуитивно стремится «стать большим» и, с самого начала будучи личностью, хочет имитировать взрослых. В отличие от взрослых ребенок не идет к гадалкам, чтобы узнать свое будущее. На вопрос: «Каким я буду, когда вырасту?» он отвечает себе: «Я буду „он” (или „она”), значит, я знаю свое будущее». Ребенок знает свое будущее: он станет таким, как взрослый, с которым он общается, сперва без различия пола, позже – взрослым того же пола, что он сам, – и так до того дня, пока он не разочаруется настолько, что вообще не захочет такого будущего. И тут он, кстати, становится более «настоящим», но в то же время подвергается большей опасности со стороны общества, потому что родители не признают его, если он не признает себя в их образе. В этом-то и состоит проблема. А еще в том, что дети не стремятся узнать будущее и что смерть не представляет для них проблемы – не то что для взрослых, которые ее боятся. А ребенок не боится: он просто живет себе помаленьку.
Иногда это приводит его к смерти, иногда к тому, что зовется кастрацией, то есть к утрате жизненных сил, если он их исчерпал на свой детский лад, – из этого периода он выйдет подростком, а потом станет взрослым. Но всего этого он не предвидит, и именно поэтому все литераторы, которые опираются в своих книгах на психоанализ, сталкиваются с проблемой: дело не в том, чтобы увидеть извне и описать процессы, протекающие в бессознательном, а в том, чтобы понять слова и поступки человека, переживающего их по-своему, не так, как другие.
Вот так и переживают детскую пору: что-то не ладится, не строят никаких планов, опоры ищут в том, что близко: в старшем брате, в приемном отце, в дереве, в самолете над головой… Побаиваются своего пути, своей территории, – и бездумно перемещаются в пространство взрослых. А если почувствуешь, что с тебя уже довольно – всегда найдется река, в которую можно прыгнуть, или дерево, с которого можно броситься вниз, – а можно и уйти к другому взрослому… Уйти пешком за десять километров, уехать автостопом. Возможности, в общем-то, ограничены. Ребенок не стремится узнать будущее; он его делает, создает это будущее. Он неосторожен. Он не готовит путей для отступления. Он творит согласно своему желанию и принимает все последствия.
Что до отношений с природой, его антропоморфизм и не научен, и не поэтичен: он вмещает в себя все сразу. Ребенок явно находится на той стадии человеческого сознания, когда явления еще не подразделяются на отдельные дисциплины. Он словно идет на реку и берет там золотоносный песок, который употребляет для строительства дома, не заботясь о том, чтобы просеять его и отделить частички золота. Эту цельность можно обнаружить не столько у типичного ребенка, сколько у того ребенка, который живет в каждом человеке. Возможно, было бы прогрессом (по крайней мере, в методологическом смысле), если бы мы вообще перестали говорить о детстве как таковом… И о детстве в каждом мужчине, в каждой женщине. Никаких Детей с большой буквы, никакого Детства… Я прихожу в ярость, когда ловлю себя на том, что начинаю говорить «Ребенок», потому что мы привыкли произносить это слово «ребенок», но ведь эта абстракция не существует, это понятие ложное, оно ничего не значит. Для меня существует один ребенок, такой-то ребенок – точно так же как один взрослый, одна женщина; женщины как таковой нет на свете! А кроме того, «дети вообще» – это опасно: под этим подразумевается слишком многое; скорее, следовало бы говорить: «некоторые дети» или «такой-то ребенок». Можно говорить: «люди в состоянии детства». Иначе попадешь в ловушку абстрактной, то есть несуществующей невзрослости, до-взрослости.
Ребенок не стремится узнать будущее; он его делает, создает это будущее. Он неосторожен. Он не готовит путей для отступления. Он творит согласно своему желанию и принимает все последствия.
Можно сравнить ребенка с деревом весной, когда оно еще не плодоносит. Оно реагирует на мир, на ненастье, на космос не так, как будет реагировать, когда начнет плодоносить. Каждый человек в состоянии детства несет в себе творческий потенциал, но не сознает этого или представляет это себе в виде фантазий и не придает этому значения. Счастливая непредусмотрительность, связанная с жизнелюбием, надеждой и верой в себя.
Переход от «быть» к «иметь»
В сущности, огромная разница между человеком во взрослом состоянии и человеком в детском состоянии заключается в том, что в организме ребенка заключен потенциальный взрослый, чью силу он интуитивно постигает через игру желания. А у взрослого его детское состояние уже зарубцевалось и навсегда для него потеряно. Он несет в себе воспоминание, более мучительное, чем ностальгия, – тягостное воспоминание о своем бессилии быть сегодня тем взрослым, каким он мечтал стать, и в то же время он чувствует свое бессилие еще хоть раз испытать способ жизни ребенка: вид ребенка, который верит в себя, еще не сознавая своего бессилия, и полностью полагается на своего отца, еще больше подчеркивает для него это чувство «никогда больше». Жребий брошен. Для него этот ребенок – представитель той хорошей или плохой мечты, которая напоминает ему минувшую пору, когда у него еще были надежды, теперь утраченные. На смену им пришла реальность, а надежды, которые он питал в детстве, если он о них и помнит, слишком мучительны в его нынешнем существовании. Думаю, что именно потому ребенок олицетворяет для него тягостные воспоминания – ведь сам он, взрослый, уже не может переменить свою жизнь.
Возможно, до пяти-шести лет ребенок представляет себе того взрослого, которым он станет, «видит» этого взрослого исключительно по образцу своих родителей. Но затем, уже лет в восемнадцать, у некоторых появляются замыслы, более или менее осознанные, которые входят в противоречие с образцами, которые им предлагают или навязывают. От этого в них появляется грубость, резкость, впрочем, не обязательно, поскольку они могут «надломиться», «сломаться», но, по моим представлениям, взрослый, который в них заключен, может дать знать о своем присутствии очень рано. Может быть, даже до пяти лет, и уж во всяком случае до десяти – лет с восьми-девяти.
В раннем детстве ребенок уже несет в себе того взрослого, которым он будет. Но он не ощущает этого взрослого как свое возможное будущее. Он является носителем этого взрослого, и этого достаточно: он не пытается его познать; у него есть желание, но он не стремится узнать, осуществится оно или нет.
В драматических обстоятельствах, при соприкосновении со смертью, с силами, которым невозможно противостоять, дети обнаруживают, что несут в себе все человечество. В маленьких детях, больных лейкемией, присутствует твердая решимость, сила, индивидуальность. Близость смерти, угрожающей их существованию, присутствие опасности не только придает им необыкновенную ясность сознания перед лицом болезни, но и удивительно обостряет их восприятие жизни. Причем эти способности дает им не болезнь. Болезнь только акцентирует, выявляет эти свойства, свидетельствующие о потенциале каждого человека с самого начала жизни. Дети с зачатия и до смерти прикасаются к сущности того, что есть человек, и эта сущность всегда при них, независимо от того, обнаруживается она или нет, замечают ее другие или не догадываются о ней.
Я слышала, как осиротевший трехлетний мальчик в порыве протеста кричал: «Я имею право иметь маму; если она умерла, значит, папа это допустил». Напрасно ему объясняли, что его отец не мог предотвратить ее смерть, он не желал это понимать. Ему нужно было, чтобы кто-то отвечал за его страдание. Почему его мать не могла остаться в живых? Как бы то ни было, когда слышишь такие рассуждения от трехлетнего мальчика, приходишь к мысли, что это не случайность, не внезапное озарение, а проявление потенциала, которым обладают все дети в мире. Бывают, конечно, такие внезапные проблески, которые являются скорее отображением хода какого-то процесса или состояния ребенка, нежели истинными свидетельствами о структуре его личности. Дети не сознают того, что высказывают. В этом и разница: взрослый размышляет о себе; ребенок о себе не размышляет; он существует. Взрослый размышляет о себе, потому что скорбит о своем утраченном детстве, и теперь, задним числом, утратив свое прошлое, может понять, каков он был раньше. Он сохранил воспоминание, сознательные или бессознательные следы которого запечатлело его тело: «Я был в доме – этот дом разрушен, теперь я в другом доме; я думаю о том разрушенном доме». Но ребенок, существующий теперь в этом доме, не пытается узнать, каков этот дом, и рассказать о нем; он привязывается к этому дому и живет в нем, занимается в нем тем, чем должен заниматься, и не задумывается над тем, что представляет собой этот дом для него или для других. Он – часть этого дома, точно так же как он – часть своих родителей, хотя и не задумывается о них. Поэтому мы и ощущаем огромную ответственность за воспитание наших детей.