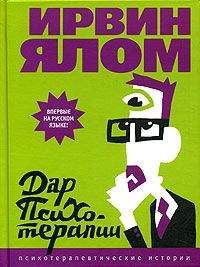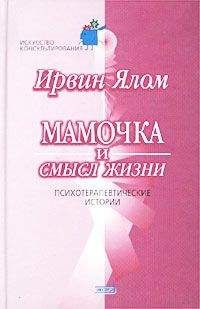Ирвин Ялом - Мама и смысл жизни
Раннее утро он провел на телефоне, проговаривая свои переживания близким друзьям, и примерно через сутки ужасный, давящий, беспокойный гнет в груди начал утихать. Помогал сам процесс разговора с друзьями, акт исповеди, хотя никто из друзей, кажется, не смог встать на его точку зрения. Даже Пол, самый близкий и старый друг, который был наперсником Эрнеста еще со времен ординатуры, не понял: он пытался убедить Эрнеста, что кошмар был благословением, предостегающим Эрнеста от нарушения профессиональных правил.
Эрнест активно защищался:
— Пол, ты забыл, Артемида не подружка моего пациента. И я не использовал своего пациента для того, чтобы он поставлял мне женщин. И у меня были только благородные намерения. Я искал Артемиду не затем, чтобы с ней переспать, а затем, чтобы исправить зло, нанесенное моим пациентом. Я не за сексом к ней пришел, просто так случилось, и уже ничего нельзя было остановить.
— Прокурор посмотрит на это по-другому, — мрачно сказал Пол. — Он из тебя котлету сделает.
Маршал, бывший наставник Эрнеста, произнес кусок из лекции, которую постоянно читал руководимому им отряду скаутов:
— Даже если ты не делаешь ничего плохого, избегай любой ситуации, где на фотографии, со стороны, может показаться, что ты делаешь что-то плохое.
Эрнест пожалел, что позвонил Маршалу. Речь про фотографию его не впечатлила; наоборот, Эрнест решил, что это отвратительно — советовать детям соблюдать осторожность только потому, что кто-то может извратить их поступки в печати.
В конце концов Эрнест игнорировал советы друзей. Они все были малодушны, думали только о том, как бы соблюсти внешние приличия и избежать судебного иска. В душе — а это единственное, что имеет значение — Эрнест был совершенно убежден, что поступил честно.
Придя в себя через двадцать четыре часа, Эрнест вернулся к работе и через четыре дня встретился с Хэлстоном, который объявил о своем решении все же прервать терапию. Эрнест знал, что подвел Хэлстона, который, конечно же, почувствовал, что Эрнест его не одобряет. Однако чувство вины из-за неудавшейся терапии недолго мучило Эрнеста. Вскоре после прощания с Хэлстоном его словно обухом по голове ударило: за прошедшие трое суток, со времени телефонных разговоров с Полом и Маршалом, он начисто забыл о существовании Артемиды! О завтраке с ней и обо всем, что было потом! Он ни разу о ней не вспомнил! Боже мой, подумал он, я вел себя так же отвратительно, как и Хэлстон, покинул ее без единого слова и даже не позвонил, не повидался с ней.
До конца дня и весь следующий день с Эрнестом творилось что-то очень странное: он снова и снова пытался думать об Артемиде, но не мог сосредоточиться. Через несколько секунд его мысли переходили на что-то совершенно другое. Поздно вечером второго дня он решил ей позвонить, и лишь с огромным трудом — Эрнесту казалось, что он выжимает восьмидесятифунтовую гирю — ему удалось набрать ее телефонный номер.
— Эрнест! Неужели это ты?
— Конечно, я. С опозданием на несколько дней. Но все-таки я.
Эрнест замолчал. Он ждал гнева, и любезность Артемиды сбила его с толку.
— Ты, кажется, удивилась, — добавил он.
— Очень удивилась. Я думала, что ты исчез навсегда.
— Мне нужно тебя увидеть. Мне все кругом кажется нереальным, но, услышав твой голос, я начал приходить в себя. У нас много дел: мне придется долго извиняться, а тебе — прощать.
— Конечно, мы увидимся. Но при одном условии. Никаких извинений и никаких прощений. Это лишнее.
— Поужинаем завтра? В восемь?
— Хорошо. Я готовлю.
— Нет. — Эрнест вспомнил о своих подозрениях насчет грибов. — Теперь моя очередь. Я беру ужин на себя.
Он явился к Артемиде, нагруженный едой из «Нанкина» — ресторанчика на улице Кирни, с худшим оформлением интерьера и лучшей китайской кухней в Сан-Франциско. Эрнест, который обожал кормить людей, с удовольствием разложил коробочки и пакеты на столе, по ходу дела называя Артемиде их содержимое. Он был страшно разочарован, когда она сказала ему, что она веганка, и ей придется отказаться от большинства блюд, в том числе замечательных рулетиков из курицы в листьях салата и говядины с пятью сортами грибов. Эрнест мысленно поблагодарил Бога, что взял рис, сваренные на пару ростки гороха и вегетарианские клецки.
— Я должен тебе кое-что рассказать, а я, как начну, уж не остановлюсь. Друзья говорят, что у меня словесное недержание, так что я тебя предупредил…
— Только не забудь мое условие. — Артемида положила руку на руку Эрнеста. — Никаких извинений и объяснений.
— Я не уверен, что смогу его выполнить. Как я уже говорил, я очень ответственно подхожу к своей работе целителя. Это я, это моя жизнь, и я не могу это включать и выключать по желанию. Поэтому я сгораю от стыда, что так ужасно обошелся с тобой. Я поступил жестоко. Мы занимались любовью — это было прекрасно, невероятно, я даже представить себе не мог такого — а потом я бросил тебя, не сказав ни слова. Мне нет оправдания. Я не могу сказать по-другому — я поступил жестоко. Наверно, тебя страшно ранила моя черствость. Ты, наверное, снова и снова пыталась понять, что я за человек и почему обошелся с тобой так ужасно.
— Я же сказала, меня такие вещи не трогают. Я, конечно, была разочарована, но я тебя прекрасно понимаю. Эрнест, — серьезно добавила она, — я знаю, почему ты сбежал той ночью.
— Да неужели? — игриво сказал Эрнест, очарованный ее наивностью. — Я думаю, ты не все знаешь, не знаешь всей правды о той ночи.
— Знаю, — настаивала она. — Я знаю гораздо больше, чем ты думаешь.
— Артемида, ты даже вообразить не можешь, что случилось со мной той ночью. Откуда тебе знать? Я ушел, потому что увидел сон — ужасный, очень личный кошмар. Как ты можешь об этом знать?
— Эрнест, я знаю этот сон. Знаю и про кота, и про ядовитое озеро, и про статую в середине.
— Артемида! У меня холодеет кровь! — воскликнул Эрнест. — Это был мой сон. Сны — это личное, это самое неприкосновенное убежище каждого человека. Откуда ты знаешь мой сон?
Артемида молчала, склонив голову.
— У меня есть и другие вопросы. Мои глубокие ощущения в тот вечер, волшебное тепло, непреодолимое желание. Я не хочу умалять твоего очарования, но но то желание было уж слишком сильным. Уж не искусственное ли оно? Может быть, грибы?
Артемида еще ниже склонила голову.
— А потом, уже в постели, я дотронулся до твоей щеки. Почему ты плакала? Мне было невероятно хорошо; я думал, что и тебе тоже. Почему ты плакала? Тебе было плохо?
— Эрнест, я не о себе плакала, а о тебе. И не из-за того, что произошло между нами — мне тоже было очень хорошо с тобой. Нет, я плакала из-за того, что должно было случиться с тобой.
— Должно было случиться? Я что, с ума схожу? Чем дальше, тем хуже. Артемида, скажи мне правду!
— Боюсь, что правда тебе не понравится.
— Доверься мне. Попробуй.
Артемида встала, ненадолго вышла и вернулась с пергаментным конвертом, из которого вытащила пожелтевший старый лист бумаги.
— Хочешь правды? Она здесь, — сказала Артемида, протягивая бумагу Эрнесту. — Это письмо написала моя бабушка моей матери Магде. Давным-давно. Письмо датировано тринадцатым июня 1931 года. Прочитать тебе?
Он кивнул. И при свете трех свечей, заливающем покинутую ресторанную еду в коробочках, Эрнест выслушал историю Артемидиной бабушки, стоящую за его кошмаром.
Магде, моей дорогой дочери, в ее семнадцатый день рождения, в надежде, что для этого письма уже не слишком рано и еще не слишком поздно.
Тебе пора узнать ответы на важные вопросы твоей жизни. Откуда мы приехали? Почему столько раз все бросали и переезжали с места на место? Кто твой отец и где он? Почему я тебя отослала прочь, а не оставила при себе? Тебе нужно знать семейную историю, о которой я напишу дальше, и передать ее своим дочерям.
Я выросла в Уйпеште, в нескольких милях от Будапешта. Мой отец, а твой дед, Янош работал механиком на большом автобусном заводе. В семнадцать лет я переехала в Будапешт. У меня было несколько причин. Во-первых, там молодой женщине было легче найти хорошую службу. Но главная причина, и мне очень стыдно об этом говорить, в том, что мой отец вел себя как животное. Он постоянно посягал на меня, когда я была еще слишком мала, чтобы за себя постоять, и окончательно растлил меня, когда мне было тринадцать лет. Моя мать об этом знала, но предпочитала делать вид, что не знает, и отказывалась меня защищать. В Будапеште я поселилась у дяди Ласло, брата моего отца, и тети Юлишки, которая устроила меня своей помощницей в доме, где работала кухаркой. Я научилась готовить и печь и несколько лет спустя заняла место тети Юлишки, когда она слегла в чахотке. На следующий год тетя Юлишка умерла, и дядя Ласло повел себя подобно моему отцу — потребовал, чтобы я заняла ее место в его постели. Я не могла этого вынести, съехала и поселилась отдельно. Мужчины повсюду были хищниками, зверями. Все — другие слуги, мальчишка-рассыльный, мясник — отпускали сальные шуточки, пялились на меня и пытались облапать, когда я проходила мимо. Даже хозяин пытался залезть ко мне под юбки.