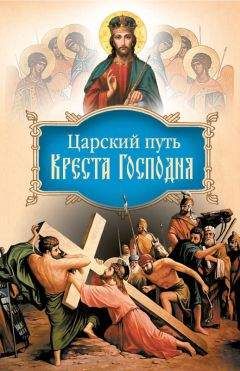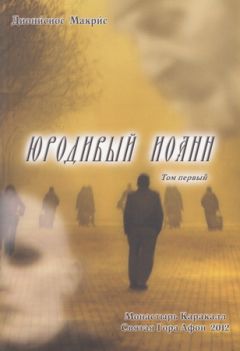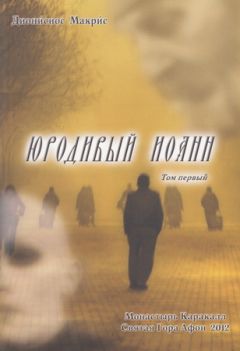Екатерина Мурашова - Лечить или любить?
Существовали и сложные рифмованные дразнилки, в которые надо было вставлять соответствующее имя:
«Как горный орел на вершинах Кавказа,
Андрюша сидит на краю унитаза…»
или
«Ленка-пенка, колбаса,
Кислая капуста,
Съела кошку без хвоста
И сказала: вкусно!»
Тематические дразнилки. Например, при намеке на межполовой интерес:
«Сережка-дурак, курит табак,
Спички ворует, Маринку целует!»
Или дразнили тех, кто «жадится»:
«Жадина-говядина, пустая шоколадина,
Под столом валяется, на… (начальная буква имени) начинается».
Поскольку было много разнообразных игр (о них я уже писала), были, разумеется, и рифмованные считалки. Ничего оригинального из этой области в нашем дворе не наблюдалось — все те же «На золотом крыльце сидели», «Ехала машина темным лесом за каким-то интересом», «Вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана»…
Этнографы пишут, что детские считалки — это вырожденные заговоры. Не знаю, так ли это, в нашем дворе я этого не замечала. Зато про «месяц из тумана» знаю прелестную историю. В 60-е годы две ленинградские дамы-фольклористки собрали детский фольклор, оформили его в сборник и понесли печатать. Им сказали: «Все это хорошо, но есть сомнительные места. Вот, например, про месяц: буду резать, буду бить… Нехорошо это как-то, агрессивно, не по-советски». — «Но ведь дети именно так считаются! — растерялись дамы. — Выбросить, что ли?» — «Зачем же выбрасывать? — ответили им. — Литература и наука должны воспитывать. Чуть-чуть можно изменить». — «Но как же?!» — «Все-то вас учить надо… Ну, например: вышел месяц из тумана, отнял нож у хулигана…»
Наша многообразная история тоже подавалась в зарифмованном виде. Например, каким-то неведомым образом до времени моего детства в нашем дворе сохранилась прелестная частушка явно времен Гражданской войны (потом я ее нигде не встречала):
«Крематорий открывали,
Беспризорника сжигали,
Дверь открыли, он танцует
И кричит: Закройте, дует!»
Была чудесная игра для малышей, которую практиковали даже в прилежащем к нашему двору детском садике. Ребятки идут по дорожке с потрескавшимся асфальтом. Ведущий командует: «Кто на трещину наступит, тот и Ленина погубит!» Все тщательно стараются «не погубить» Ленина. Что с того, что он уже помер почти пятьдесят лет назад. Все же знают, что он «вечно живой»! А ведущий снова командует: «Кто на трещину наступит, тот и Гитлера погубит!» Все тщательно наступают на трещины…
Дворовая субкультура знала доподлинно: врага надо высмеять, и тогда он уже не будет опасным. Рифмы приходили на помощь:
«Внимание, внимание, говорит Германия:
Сегодня под мостом поймали Гитлера с хвостом!»
Порою антиномии нашего двора поражали своей эклектичностью. Например, при качании на доске находящиеся в верхней точке кричали: «Мы на самолете, а вы — в болоте!» Находящиеся в нижней точке отвечали: «Мы у Ленина в Кремле, а вы у черта на Луне!»
Вопрос:
«Ты за луну или за солнце?»
Если отвечали «за солнце», то тыкали пальцем и кричали:
«За солнце, за солнце — за пузатого японца!»
А «за луну» обозначало «за советскую страну».
Диссидентство, впрочем, тоже просачивалось. Например, рекомендовалось сунуть ладонь ребром в рот и сказать «Ленинград!» Получалось — «Ленин — гад!»
Что я еще забыла, подскажите? Ведь что-то наверняка ускользнуло из памяти, да и в других дворах и других краях наверняка имелся свой рифмованный эксклюзив…
Собственно стихи хранились и передавались в потертых тетрадках, которые назывались «песенниками». На обложке каждого «песенника» было написано: «Кто мой песенник читает, чур, ошибки не считает!» Я, помню, нарочно обошлась без этой сакраментальной фразы. Всем двором пытались уличить, но безуспешно, у меня была врожденная грамотность. Кроме песен в песенники записывали поэмы. Они были творениями каких-то безымянных графоманок. Одна, помню, называлась «Зависть». Но среди этих безумных «поэм» (и наравне с ними в нашей дворовой «табели о рангах») можно было встретить что угодно. Например, я тайком списала со старой тетради моей матери (песенник тридцатилетней давности) эротические стихи К. Симонова, которые тут же все переписали.
Чуть повзрослев, сочиняли стихи сами. Если решались, представляли их на дворовый суд. Предпочтение отдавалось любовной и гражданской лирике. Одно мое стихотворение о блокаде даже какой-то оказией было напечатано в «Ленинских искрах». Помню одну строфу:
«…Но сурово стоял, сдвинув арки мостов,
Словно брови, сомкнутые в гневе,
Самый гордый из всех на земле городов,
Символ мужества трех поколений!»
Сохранилось лирическое стихотворение, написанное влюбленным в меня дворовым мальчиком (он косил под юного Вертера и собирался вскорости помирать):
«И не надо жалости птицам в вышине
Ты не плачь, пожалуйста, только обо мне,
Ведь земля так ласкова и цветов полна,
Верь, что будешь счастлива и забудь меня!»
Обязательно пели специальные дворовые песни (исполнять их дома в «приличных» семьях часто запрещалось). Почему-то у нас, детей, они считались «блатными», хотя собственно блатными никогда не были. Умилительно, что «блатной» песней у нас считался романс на стихи И. Северянина (я узнала об этом много лет спустя), который исполнялся так:
«Это было у моря, где ажурная пена,
Где встречается редко городской экипаж,
Королева играла — эх-ма! — в башне замка Шопена — эх-ма!
— И, внимая Шопену, полюбил ее паж — Та-рата-тарарам!»
Характерным для нашего ленинградского двора был географический разброс происходящего в песнях (все-таки портовый город), какая-то такая щемящая интонация под раннего Паустовского: «Там среди пампасов, где бегают бизоны», «По дороге лесной проскакали ковбои», «В салоне много вина, там пьют бокалы до дна», «В тропическом лесу купил я дачу», «В Одессе много, много ресторанов» и, конечно, бессмертные «В нашу гавань заходили корабли». Завершала эту географическую серию песня из кинофильма «Отроки во Вселенной», которую мы исполняли проникновенно, со слезами на глазах:
«Ночь прошла, будто прошла боль.
Спит земля — пусть отдохнет, пусть.
У Земли, как и у нас с тобой,
Там, впереди, долгий, как жизнь, путь.
Я возьму этот большой мир,
Каждый день, каждый его час.
Если что-то я забуду,
Вряд ли звезды примут нас».
Вдоль облупившихся серых стен дворов-колодцев песня летела от растрескавшегося асфальта высоко к звездам, а мальчики и девочки, выросшие за «железным занавесом» и никогда не бывавшие дальше крымских здравниц, вполне чувствовали себя полноправными гражданами Вселенной. Давно это было…
А как, интересно, обстоят дела теперь? Те, кто моложе, у кого есть маленькие дети, или те, у кого уже подросли внуки, откликнитесь. Они дразнятся? Считаются? Сохраняется ли непрерывность детского фольклора? И как обстоит с этим дело в других странах? Несмотря на уже солидные годы, почему-то очень хочется узнать хотя бы одну «заграничную» дразнилку…
Глава 53
Социопаты
— Потолок бы покрасить надо… Все остальное у вас красиво, игрушки вот, мебель хорошая, а потолок да-а… подкачал…
— Это в рентгеновском кабинете наверху трубы протекли, — я поймала себя на том, что как будто бы оправдываюсь. — Пока заметили, да еще растворы у них ядовитые…
— Через суд можно попробовать, — сказал мой посетитель.
— Как ты себе это представляешь?! — я чувствовала, что начинаю сердиться. — Это же государственная поликлиника!
— Да, это сложно, вы правы, — подумав, согласился посетитель и деловито занялся огромным магнитом, по очереди прилепляя к нему всякие железки и отдирая их обратно.
Я удержалась, чтобы не потрясти головой, и мельком взглянула на обложку карточки, где всегда пишут дату рождения. Мальчику было восемь лет.
— Я слушаю вас, — обратилась я к маме, которая была похожа на воспитательницу детского садика или учительницу начальных классов из советских фильмов — гладко причесанная, почти без косметики, туфли на низком каблуке.