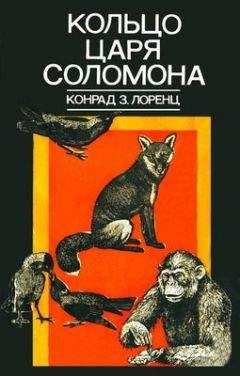Конрад Лоренц - Агрессия
Пожалуй, излишне указывать на аналогии между описанным выше социальным поведением некоторых животных - прежде всего диких гусей - и человека. Все прописные истины наших пословиц кажутся в той же мере подходящими и для этих птиц. Будучи эволюционистами и дарвинистами с колыбели, мы можем и должны извлечь из этого важные выводы. Прежде всего мы знаем, что самыми последними общими предками птиц и млекопитающих были примитивные рептилии позднего девона и начала каменноугольного периода, которые наверняка не обладали высокоразвитой общественной жизнью и вряд ли были ум- нее лягушек. Отсюда следует, что подобия социального поведения у серых гусей и у человека не могут быть унаследованы об общих предков; они не "гомологичны", а возникли - это не подлежит сомнению - за счет так называемого конвергентного приспособления. И так же несомненно, что их существование не случайно; вероятность - точнее, невероятность - такого совпадения можно вычислить, но она выразилась бы астрономическим числом нулей.
Если в высшей степени сложные нормы поведения - как, например, влюбленность, дружба, иерархические устремления, ревность, скорбь и т.д. и т.д. - у серых гусей и у человека не только похожи, но и просто-таки совершенно одинаковы до забавных мелочей - это говорит нам наверняка, что каждый такой инстинкт выполняет какую-то совершенно определенную роль в сохранении вида, и притом такую, которая у гусей и у людей почти или совершенно одинакова. Поведенческие совпадения могут возникнуть только так.
Как подлинные естествоиспытатели, не верящие в "безошибочные инстинкты" и прочие чудеса, мы считаем самоочевидным, что каждый такой поведенческий акт является функцией соответствующей специальной телесной структуры, состоящей из нервной системы, органов чувств и т.д.; иными словами функцией структуры, возникшей в организме под давлением отбора. Если мы с помощью какой-нибудь электронной или просто мысленной модели попытаемся представить себе, какую сложность должен иметь физиологический аппарат такого рода, чтобы произвести хотя бы, к примеру, социальное поведение триумфального крика, то с изумлением обнаружим, что такие изумительные органы, как глаз или ухо, кажутся чем-то совсем простеньким в сравнении с этим аппаратом.
Чем сложнее и специализированное два органа, аналогично устроенных и выполняющих одну и ту же функцию, тем больше у нас оснований объединить их общим, функционально определенным понятием - и обозначить одним и тем же названием, хотя их эволюционное происхождение совершенно различно. Если, скажем, каракатицы или головоногие, с одной стороны, и позвоночные, с другой, независимо друг от друга изобрели глаза, которые построены по одному и тому принципу линзовой камеры и в обоих случаях состоят из одних и тех же конструктивных элементов - линза, диафрагма, стекловидное тело и сетчатка, - то нет никаких разумных доводов против того, чтобы оба органа - у каракатиц и у позвоночных - называть глазами, безо всяких кавычек. С таким же правом мы можем это себе позволить и в отношении элементов социального поведения высших животных, которое как минимум по многим признакам аналогично поведению человека.
Высокомерным умникам сказанное в этой главе должно послужить серьезным предупреждением. У животного, даже не принадлежащего к привилегированному классу млекопитающих, исследование обнаруживает механизм поведения, который соединяет определенных индивидов на всю жизнь и превращается в сильнейший мотив, определяющий все поступки, который пересиливает все "животные" инстинкты - голод, сексуальность, агрессию и страх - и создает общественные отношения в формах, характерных для данного вида. Такой союз по всем пунктам аналогичен тем отношениям, какие у нас, у людей, складываются на основе любви и дружбы в их самом чистом и благородном проявлении.
12. ПРОПОВЕДЬ СМИРЕНИЯ Рубанок не проходит здесь - В доске сучки торчат везде - Твоя то спесь.
И ты всегда-всегда Гарцуешь у нее в узде.
Христиан Моргенштерн
Все, что содержится в предыдущих одиннадцати главах, - это научное естествознание. Приведенные факты достаточно проверены, насколько это вообще можно утверждать в отношении результатов такой молодой науки, как сравнительная этология. Однако теперь мы оставим изложение того, что выявилось в наблюдениях и в экспериментах с агрессивным поведением животных, и обратимся к вопросу: можно ли из всего этого извлечь что-нибудь применимое к человеку, полезное для предотвращения тех опасностей, которые вырастают из его собственного агрессивного инстинкта.
Есть люди, которые уже в самом этом вопросе усматривают оскорбление рода людского. Человеку слишком хочется видеть себя центром мироздания; чем-то таким, что по самой своей сути не принадлежит остальной природе, а противостоит ей как нечто иное и высшее. Упорствовать в этом заблуждении для многих людей потребность. Они остаются глухи к мудрейшему из наказов, какие когда-либо давал им мудрец, - к призыву "познай себя"; это слова Хилона, хотя обычно их приписывают Сократу. Что же мешает людям прислушаться к ним?
Есть три препятствия тому, усиленные могучими эмоциями. Первое из них легко устранимо у каждого разумного человека; второе, при всей его пагубности, все же заслуживает уважения; третье понятно в свете духовной эволюции - и потому его можно простить, но с ним управиться, пожалуй, труднее всего на свете. И все они неразрывно связаны и переплетены с тем человеческим пороком, о котором древняя мудрость гласит, что он шагает впереди падения, - с гордыней. Я хочу прежде всего показать эти препятствия, одно за другим; показать, каким образом они вредят. А затем постараюсь по мере сил способствовать их устранению.
Первое препятствие - самое примитивное. Оно мешает самопознанию человека тем, что запрещает ему увидеть историю собственного возникновения. Эмоциональная окраска и упрямая сила такого запрета парадоксальным образом возникают из-за того, что мы очень похожи на наших ближайших родственников. Людей было бы легче убедить в их происхождении, если бы они не были знакомы с шимпанзе. Неумолимые законы образного восприятия не позволяют нам видеть в обезьяне - особенно в шимпанзе просто животное, как все другие, а заставляют разглядеть в ее физиономии человеческое лицо. В таком аспекте шимпанзе, измеренный человеческой меркой, кажется чем-то ужасным, дьявольской карикатурой на нас. Уже с гориллой, отстоящей от нас несколько дальше в смысле родства, и уж тем более с орангутангом, мы испытываем меньшие трудности. Лица стариков причудливые дьявольские маски - мы воспринимаем вполне серьезно и иногда даже находим в них какую-то красоту. С шимпанзе это совершенно невозможно. Он выглядит неотразимо смешно, но при этом настолько вульгарно, настолько отталкивающе, - таким может быть лишь совершенно опустившийся человек. Это субъективное впечатление не так уж ошибочно: есть основания предполагать, что общие предки человека и шимпанзе по уровню развития были гораздо выше нынешних шимпанзе. Как ни смешна сама по себе эта оборонительная реакция человека по отношению к шимпанзе, ее тяжелая эмоциональная нагрузка склонила очень многих ученых к построению совершенно безосновательных теорий о возникновении человека. Хотя происхождение от животных не отрицается, но близкое родство с шимпанзе либо перепрыгивается серией логических кульбитов, либо обходится изощренными окольными путями.
Второе препятствие к самопознанию - это эмоциональная антипатия к признанию того, что наше поведение подчиняется законам естественной причинности. Бернгард Хассенштайн дал этому определение "антикаузальная оценка". Смутное, похожее на клаустрофобию чувство несвободы, которое наполняет многих людей при размышлении о всеобщей причинной предопределенности природных явлений, конечно же, связано с их оправданной потребностью в свободе воли и со столь же оправданным желанием, чтобы их действия определялись не случайными причинами, а высокими целями.
Третье великое препятствие человеческого самопознания - по крайней мере в нашей западной культуре - это наследие идеалистической философии. Она делит мир на две части: мир вещей, который идеалистическое мышление считает в принципе индифферентным в отношении ценностей, и мир человеческого внутреннего закона, который один лишь заслуживает признания ценности. Такое деление замечательно оправдывает эгоцентризм человека, оно идет навстречу его антипатии к собственной зависимости от законов природы - и потому нет ничего удивительного в том, что оно так глубоко вросло в общественное сознание. Насколько глубоко - об этом можно судить по тому, как изменилось в нашем немецком языке значение слов "идеалист" и "материалист"; первоначально они означали лишь философскую установку, а сегодня содержат и моральную оценку. Необходимо уяснить себе, насколько привычно стало, в нашем западном мышлении, уравнивать понятия "доступное научному исследованию" и "в принципе оценочно-индифферентное". Меня легко обвинить, будто я выступаю против этих трех препятствий человеческого самопознания лишь потому, что они противоречат моим собственным научным и философским воззрениям, - я должен здесь предостеречь от подобных обвинений. Я выступаю не как закоренелый дарвинист против неприятия эволюционного учения, и не как профессиональный исследователь причин против беспричинного чувства ценности, и не как убежденный материалист против идеализма. У меня есть другие основания. Сейчас естествоиспытателей часто упрекают в том, будто они накликают на человечество ужасные напасти и приписывают ему слишком большую власть над природой. Этот упрек был бы оправдан, если бы ученым можно было поставить в вину, что они не сделали предметом своего изучения и самого человека. Потому что опасность для современного человечества происходит не столько из его способности властвовать над физическими процессами, сколько из его неспособности разумно направлять процессы социальные. Однако в основе этой неспособности лежит именно непонимание причин, которое является - как я хотел бы показать - непосредственным следствием тех самых помех к самопознанию.