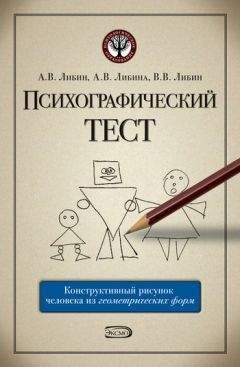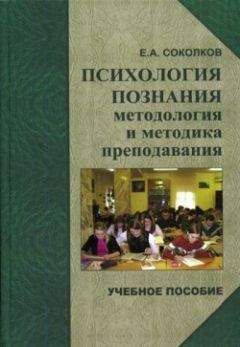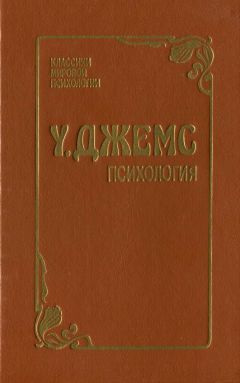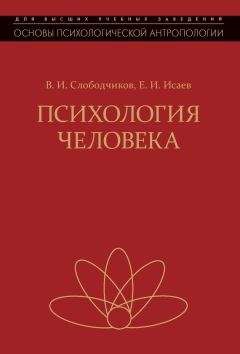Владимир Дружинин - Варианты жизни. Очерки экзистенциальной психологии
Для Мигеля де Унамуно предмет изучения – не абстрактный человек, а «человек из плоти и крови», который рождается, спит, думает, любит, ест, пьет и в конце концов умирает. Человек стремится жить, не умирая, и этим не отличим от любой субстанции.
Его жизнь определяет ряд принципов. Во-первых, принцип единства и непрерывности существования, состоящий в единстве тела, действий и целей. Второй принцип – непрерывность человека во времени. Человек является тем сегодня, что соответствует последовательности состояний сознания и много лет назад. Основой индивидуальности является память (по Анри Бергсону – «память духа», а не «память-привычка»): стремление воспоминаний длится и превращается в надежду; тем самым психологическое прошлое превращается в будущее. Поэтому требовать от человека, чтобы он стал другим, равнозначно требованию уничтожить самого себя, поскольку всякая личность изменяется лишь в пределах единства и непрерывности ее духовной жизни.
Унамуно принимает постулат И. Канта: человек есть цель, а не средство: «Всякая цивилизация ориентируется на каждого человека, на каждое Я. В противном случае, что это за идол, назовем мы его Человечеством или еще как-нибудь, которому должны приносить в жертву все и каждый из людей. Почему я должен жертвовать собою ради своих ближних, соотечественников, ради своих детей, и потом мои дети – жертвовать собой ради своих детей и так далее в нескончаемой цепи сменяющих друг друга поколений? И кто же наконец пожнет плоды всех этих жертвоприношений?
Те же самые люди, что твердят нам об этом фантастическом самопожертвовании, об этом посвящении без адреса, имеют обыкновение еще и проповедовать так называемое право на жизнь. А что такое – право на жизнь?
Мне говорят, что я пришел в этом мир ради осуществления какой-то социальной цели, но я-то чувствую, что я, точно так же как и каждый из моих собратьев, пришел, чтобы осуществить самого себя, чтобы прожить свою жизнь»[7].
В этом отрывке явно виден тактический прием Унамуно: тезисы оппонентов опровергать ссылками на индивидуальный чувственный опыт. Утверждение человека в жизни есть утверждение его индивидуального сознания, мир существует для человеческой души. И если мы перестаем верить в бессмертие нашей души, то значение индивидуальной земной жизни возрастает непомерно! Борьба за бессмертие есть борьба за индивидуальное сознание человека.
«Трагическое чувство жизни» толкает человека к решению экзистенциальной проблемы: человек хочет знать, умрет ли он полностью и окончательно или нет. Если индивид смертен – смертны и душа и тело, – то жизнь бессмысленна и впереди – безысходное отчаяние. Если человек знает, что не умрет, тогда – смирение. Если ответ не определен, тогда человек мечется между смирением и отчаянием и вступает в борьбу за свою жизнь. «Бессмертная жажда бессмертия», по Унамуно, лежит в основе веяний науки, философии и религии. Человек не может представить себя несуществующим, переживание смерти ему изначально не дано: «Мысль о том, что мне предстоит умереть, и тайна того, что будет потом, – это пульс моего сознания»[8].
Культ бессмертия порождает религию. Человек жаждет вечности, потому и хоронит своих мертвецов («человек есть животное, хоронящее мертвых»), в отличие от прочих животных, возводит пирамиды и дольмены, мавзолеи и памятники, а сам живет в землянках и хижинах. Все это – от желания обрести еще одну, но вечную жизнь.
Человек не желает умирать – и это его главное желание. По мысли Унамуно, каждый человек значит больше, чем все человечество вместе взятое, и нельзя одним жертвовать ради всех. Это возможно лишь тогда, когда все жертвуют ради каждого. Проблема долговечности собственной личной души превращает человека в центр Вселенной: «Я требую бессмертия не на основании какого-то своего права или каких-то своих заслуг; это только моя потребность, это то, в чем я нуждаюсь, чтобы жить»[9]. Гарант бессмертия индивидуальной души – Бог, и человек начинает творить его усилиями своей веры и воображения. Только приняв веру в Бога, человек обретает уверенность в существовании – и существовании вечном! – своей души после смерти. Если вера в человеке ослабевает, то теряется надежда на бессмертие. Человек предпринимает попытки увековечить себя в этой жизни, ибо только слабые покоряются смерти, а сильные выплескивают свою силу «по ту сторону смерти».
Унамуно убежден, что творчество и достижения существуют не для удовольствия творящего, а ради удовлетворения его жажды увековечить себя здесь и теперь: иначе бы художники, музыканты и поэты не ставили бы свои подписи под произведениями: «Спросите любого художника, пусть скажет, только искренне: что бы он предпочел: чтобы погибло его произведение, но память о нем сохранилась, или же наоборот, и сами увидите, что он вам скажет, если, конечно, будет действительно искренен. Если человек трудится не для того, чтобы жить и жить помаленьку, он трудится для того, чтобы остаться в живых и жить вечно»[10].
Добавлю от себя: средневековые художники (по крайней мере, до наступления кватроченто) не ставили подписи под своими работами, и проблема авторства меньше всего занимала сочинителей саг и героических песен. Ослабление веры привело к индивидуализации и к стремлению автора увековечить свое «Я» в этом земном мире. Древние греки тоже не верили в спасение души после смерти, и поэтому их произведения не анонимны.
Отсутствие веры в загробную жизнь и бессмертие души, неопределенная надежда и сомнения – а буду ли я после смерти – толкают людей на борьбу за утверждение своей личности здесь и теперь. Люди не только стремятся воздвигнуть себе пирамиды, памятники или хотя бы вписаться при жизни в энциклопедические словари и справочники. Они встают на путь конкуренции с другими людьми – живыми и мертвыми: на пьедестале бессмертия не всем хватит места. С тщеславным человеком происходит то же самое, что и со скрягой: страшное желание выжить заставляет его принять средства за цели. По этому поводу Унамуно пишет: «Когда нас обуревают сомнения и затуманивают нашу веру в бессмертие души, с возрастающей силой и болью отзывается в нас жажда обессмертить свое имя и славу. И отсюда эта ожесточенная борьба за то, чтобы выделиться, за то, чтобы каким-то образом пережить себя в памяти других людей и будущих поколений. Эта борьба в тысячу раз более жестокая, чем борьба за существование, и она придает особый тон, колорит и характер нынешнему нашему обществу, которое утрачивает средневековую веру в бессмертие души. Каждый жаждет самоутверждения, хотя бы иллюзорного»[11].
Одержимость манией оригинальности, славы и культ таланта – признаки охватившего людей сомнения в бессмертии души. Люди предпочитают, чтобы превозносили их талант, нежели говорили, что они совершают праведные деяния. Люди стремятся действовать скорее безрассудно, но талантливо, чем целесообразно, но бездарно. Они вступают в ожесточенную конкуренцию друг с другом, ревнуют к гениям, уже мертвым, оспаривая их славу. Иконоборец хочет заменить иконы собственными священными образами. Ученик, выступая с критикой своих учителей, защищает себя и свое место на небесах славы. Ради жажды славы, уникальности приносится в жертву и земная жизнь и счастье: даже геростратова слава лучше забвения. Она точно произрастает из жажды бессмертия. Эта страсть к сохранению памяти о нас после смерти порождает зависть, которая в тысячу раз страшнее голода, ибо это голод духовный. Преступление, начинающее историю человечества, порождено завистью – убийство Авеля Каином.
Гарантия сохранения памяти о человеке после смерти – существование рода людского. Поэтому человек, стремящийся к славе, безжалостный к жизни живых конкурентов и умерших гениев, заинтересован в продолжении земной жизни других людей, но только тех, кто сам не претендует на дележ славы и место в людской памяти, тех, кто почитает единственного творца – себя самого, а не Бога. «И здесь имеется определенная градация ступеней. Тот, кто пренебрегает аплодисментами толпы сегодня, стремится пережить себя в памяти немногочисленных представителей сменяющих друг друга поколений. “Посмертная слава – удел тех, кто принадлежал к меньшинству”, – говорил Гуно. Такой художник стремится продолжить себя более во времени, чем в пространстве. Идолы толпы вскоре ниспровергаются самой же толпой, их монумент разбивается у подножия пьедестала и никто на него не глядит, в то время как тот, кто овладеет сердцем немногих избранных, получит более долгое время ревностного культа, по крайней мере, лишь в избранном и узком кругу, но зато спасающем его от половодья забвения. Такой художник широту своей славы приносит в жертву ее долговечности; он жаждет скорее, чтобы слава его длилась вечно в каком-нибудь уединенном уголке, чем лишь на миг блеснула в целом мире; ему желаннее быть вечным и наделенным самосознанием атомом, нежели мгновенной вспышкой сознания целой Вселенной; бесконечность он приносит в жертву вечности»[12], – это Унамуно пишет, наверное, о себе самом.