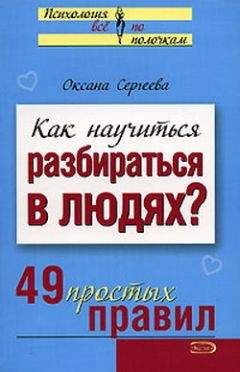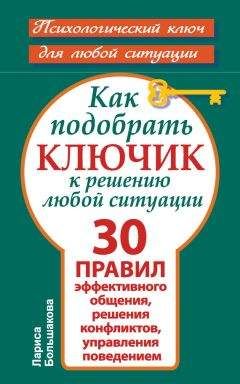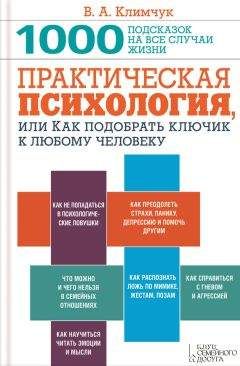Эдуар Тайлор - Первобытная культура
Стоит только сравнить действие древнего и современного олицетворения на наш собственный ум, чтобы понять хотя бы отчасти то, что изменилось в этот промежуток времени. Мильтон может быть полон мысли, величествен, классически поэтичен, когда рассказывает, как Грех и Смерть сидели за оградой ада и как они перекинули чудовищный по своей длине мост через глубокую пропасть, отделявшую их от земли. Тем не менее смысл подобных описаний кажется современному уму весьма незначительным, и мы готовы судить о них, как судим о каких-нибудь поддельных неаполитанских бронзах: «как подделка антика это отлично». Становясь на точку зрения древних скандинавов, нам нетрудно угадать, что самые искусные современные подражания не могут иметь того глубокого значения, какое мы видим в описании Гелы, богини смерти, суровой, бледной и страшной, живущей в высоком доме за крепкими решетками и держащей души умерших в своих десяти мирах; Голод служит ей пищей, Голодная смерть – ножом, Забота – ложем и Нищета – занавесом. Но когда эти древние вещественные описания переносятся в современную обстановку, дух их, несмотря на самое точное воспроизведение, совершенно меняется… Так, вычурным нам кажется юмор Чарлза Лэма, который, будучи стар и немощен, писал однажды своему приятелю: «Моими ночными товарищами стали теперь Кашель и Судорога; мы спим втроем в одной постели». Впрочем, нам следовало бы, пожалуй, не слишком критически отнестись к этой шутке, так как она в одно и тоже время следствие и воспоминание прошлой умственной жизни.
Различие грамматического рода есть процесс, тесно связанный с образованием мифа. Грамматический род бывает двоякий. То, что может быть названо половым родом, известно всякому, имеющему классическое образование. В латинском языке не только homo (мужчина) и femina (женщина) естественно причислены к мужскому и женскому роду, но и такие слова, как pes (нога) и gladius (меч) – мужского рода, biga (парная колесница) и navis (лодка) – женского, и то же различие проведено между такими абстракциями, как honor (честь) и tides (вера). Таким образом, бесполые предметы и идеи классифицируются как мужские и женские, несмотря на то что был принят еще другой, средний, или «ни тот ни другой» род, что может отчасти быть объяснено тем, что этот последний род возник позже и что индоевропейские языки имели первоначально только мужской и женский род, как это осталось до сих пор в еврейском языке. Хотя нелегко объяснить в частностях обыкновение приписывать пол предметам, которые его не имеют, но если судить о нем по одной из главных его идей, оставшейся до сих пор вполне понятной, то оно в своих принципах не представляет ничего таинственного.
Язык всегда делает замечательно меткое различие между сильным и слабым, суровым и мягким, грубым и нежным, когда противопоставляет их как мужское и женское. Нетрудно понять даже такие вымыслы, какие, по описанию Пиетро делла Балле, существовали у средневековых персов, которые на практике различали мужское и женское, т. е. сильное и нежное, даже в таких вещах, как пища и одежда, воздух и вода, и которым соответственно назначалось то или другое применение. Особенно сильно и ясно выражаются в этом отношении даяки на Борнео, которые говорят о сильном ливне: «Уитан ачай са!» – «Мужчина дождь этот!» Как ни трудно решить, насколько предметы и мысли классифицировались в речи как мужские и женские вследствие того, что были олицетворены, и насколько они олицетворялись в силу того, что их классифицировали как мужские и женские, но, во всяком случае, очевидно, что оба эти процесса совпадают и содействуют друг другу.
Кроме того, при изучении языков, лежащих вне круга обыкновенного европейского образования, оказывается, что теории грамматического рода следует уделять больше внимания. В дравидийских языках Южной Индии существует интересное различие между «старшим родом, или принадлежащим к высшей касте», который заключает в себе разумных существ, т. е. богов и людей, и «младшим родом, или не принадлежащим ни к какой касте», к которому относятся неразумные предметы, будь то живые животные или неодушевленные вещи. Различию между одушевленным и неодушевленным родом придается особое значение в семействе языков североамериканских индейцев-алгонкинов. У них не только все животные принадлежат к одушевленному роду, но также и солнце, луна, звезды, гром и молния как существа олицетворенные. Кроме того, к одушевленному роду причисляются не только деревья и плоды, но и некоторые совершенно явственно лишенные всякой жизни предметы, которые, по-видимому, пользуются этим отличием вследствие своей особой святости или силы: таковы, например, камень, служащий алтарем при жертвоприношениях маниту, лук, перо орла, котел, курительная трубка, барабан и вампум. Там, где все животное считается одушевленным, некоторые части его тела, взятые отдельно, могут быть неодушевленными, как, например, рука или нога, клюв или крыло. Но даже и здесь известные предметы по известным причинам причисляются к одушевленному роду. Таковы когти орла и медведя, ногти человека, бобровая струя и другие предметы, которым приписывается особая или мистическая сила. Если бы кому-нибудь показалось странным, что мысль дикаря до такой степени вся насквозь пропитана мифологией, пусть он обратит внимание на значение такого рода естественной грамматики. Подобный язык есть настоящее отражение целого мира мифов.
Есть, впрочем, еще и другой путь, где язык и мифология могут действовать и реагировать друг на друга. Даже и мы, с нашим притупленным мифологическим пониманием, не можем придать индивидуального имени безжизненному предмету, как, например, лодке или оружию, не представляя себе в нем при этом действии чего-то вроде личности. У народов, мифические идеи которых уцелели еще в полной силе, подобный процесс может проявляться тем более ярко. Быть может, дикари, находящиеся на весьма низкой ступени развития, не способны своей утвари или своим лодкам давать имена, как живым существам, но общества, стоящие несколькими ступенями выше, обнаруживают этот прием в его предельном развитии. У зулусов, например, мы находим имена для палиц: Игумгеле, или Ненасытная, У-нотлола-мазибуко, или Тот, кто стережет брод. Дротики называются Имбубузи, или Виновник стонов, У-силоси-ламбиле, или Голодный леопард. А так как оружие это употребляется и в домашнем быту, то известного рода дротик носит иногда мирное имя У-симбела-бантабами, т. е. Тот, кто копает для моих детей.
В Новой Зеландии существует такой же обычай. В преданиях маори о переселениях их предков говорится, как Нгагуэ сделал из яшмы два острых топора по имени Тутауру и Гаугау-теранги, как этими топорами были срублены лодки Те-Арава и Таинуи и как на Те-Арава было два каменных якоря, которые назывались Тока-пароре, или Косой камень, и Тутеранги-гауру, или Похожий на гремящее небо. Эти легенды не обрываются в далеком прошлом, но переходят в историческое предание, достигающее новейших времен. Только в самое последнее время, говорят маори, пропал знаменитый топор Тутауру, а что касается серьги по имени Каукауматуа, которая была сделана из осколка того же камня, то она, по их уверению, существовала до 1846 г., когда обладатель ее Те-Геугеу погиб при обвале земли. На более высоких ступенях культуры проявляется тот же детский обычай давать личные имена неодушевленным предметам. Так, мы читаем о Миёльнире, молоте Тора, который узнают великаны, когда он приближается, летя по воздуху, о мече Артура – Экскалибуре, который был схвачен рукой, одетой в белый бархат, когда сэр Бедивер отбросил его в озеро, о могучем мече Сида Тизоне-Головне, который он поклялся похоронить в своей груди, если бы этот меч был побежден вследствие трусости своего обладателя.
Таким образом, воззрения младенческой, первобытной философии, приписывавшей личную жизнь всей природе вообще, и ранняя тирания слова над человеческим умом оказываются двумя великими, если не величайшими, двигателями мифологического развития. Тут действовали, конечно, и другие причины, которые будут указаны в связи с некоторыми специальными группами легенд, и если бы можно было составить полный перечень этих причин, между ними оказалось бы еще много других интеллектуальных факторов. Во всяком случае, необходимо вполне уяснить себе, что такое исследование процессов образования мифа возможно только при живом понимании состояния человеческого ума в мифологическом периоде. Русские в Сибири, прислушиваясь к разговору грубых киргизов, были поражены беспрерывным потоком поэтической импровизации этих варваров и говорили: «Что бы эти люди ни увидели, у них все вызывает новые фантазии!» Цивилизованный европеец мог бы противопоставить свою правильную, вышколенную, прозаическую мысль дикой хитросплетенной поэзии и легенде древнего составителя мифов. Он мог бы сказать, что все, попадавшееся на глаза этому последнему, давало повод к порождению вымысла. Ученый, занимающийся анализом мифического мира и не обладающий способностью переноситься в эту фантастическую атмосферу, может прийти к столь печальному непониманию глубины и значения этого мира, что примет его за простую бессмысленную выдумку. Более верный взгляд будет у того, кто имеет поэтическую способность переноситься в прошлую жизнь нашего мира и, подобно актеру, способен на минуту забыть свою собственную личность и вообразить себя тем лицом, которое он изображает. Вордсворт, так метко названный Максом Мюллером «современным древним», мог писать о Буре и Зиме и о нагом Солнце, взбирающемся на небо, как будто он был одним из поэтов Вед во время возникновения арийцев и «видел» своим мысленным взором мифические гимны Агнии или Варуне. Для полного понимания мифа древнего мира нужны не одни аргументы и факты, но и глубокое поэтическое чувство.