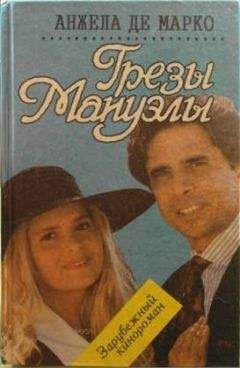Вода и грёзы. Опыт о воображении материи - Башляр Гастон
Само собой разумеется, мы не должны пользоваться идеями преподаваемой мифологии, препятствующей точным психологическим исследованиям мифов. В преподаваемой мифологии обычно начинают с общего – вместо того, чтобы начинать с особенного и частного. Полагают, что мифы можно рационально объяснять, не постаравшись даже ощутить их. Каждый участок мироздания получает своего бога – и у всех есть имена. Нептун берет себе море; Аполлон – небо и свет. Правда, речь здесь идет не более чем о словаре. Психолог же мифа все-таки должен приложить усилия к тому, чтобы постигнуть явления, скрытые за именами, чтобы – до повествований и рассказов – пережить естественные грезы, грезы уединенные, принимающие опыт всех органов чувств и проецирующие все наши фантазмы на все предметы. И грезы эти в который раз поставят обыкновенную будничную воду выше безграничной морской глади.
III
Теме превосходства «земной» воды над морской, естественно, не удалось ускользнуть от внимания со стороны современных исследователей мифологии. В этой связи мы упомянем только работы Шарля Плуа. Они нас интересуют в тем большей степени, что натурализм мифологии Плуа по сути своей широкомасштабен, соразмерен самым общим космическим феноменам. Это хороший пример для проверки нашей теории материального воображения, которая движется в противоположную сторону и стремится отвести надлежащее место осязаемому и чувственному рядом с видимым и отдаленным.
Для Шарля Плуа фундаментальная мифологическая драма – монотонная тема, обрастающая разнообразными вариациями, – это, как известно, драма дня и ночи. Все герои солярны: все боги – боги света. Все мифы рассказывают одну и ту же историю: о триумфе дня над ночью. Эмоция же, которая одушевляет мифы, – самая первичная эмоция: страх перед мраком, тревога, которая в конце концов излечивалась с наступлением утренней зари. Мифы людям нравятся, потому что они хорошо кончаются; мифы хорошо кончаются, потому что кончаются они, как ночь, победой дня, положительного и отважного героя, который раздирает завесы и режет их на кусочки, который освобождает людей от ужаса, возвращает к жизни людей, затерянных посреди мрака, словно в аду. В мифологической теории Плуа все боги, и даже подземные, окружены ореолом славы именно потому, что они боги; они придут – хотя бы на один день, хотя бы на час – причаститься божественной радости, дневному деянию, а это – всегда подвиг.
В соответствии с этим общим тезисом богу воды должна принадлежать соответствующая часть небес. Поскольку Зевс уже взял себе небо голубое, ясное, спокойное, Посейдону остается небо серое, пасмурное, облачное[362]. Таким образом, Посейдон тоже получает определенную роль в непрерывно длящейся небесной драме. Значит, грозовые тучи, облака, туманы – это первичные понятия нептунианской[363] психологии. Это и есть объекты непрестанных гидрических грез, и они выжимают воду, скрытую в небесах. Приметы, предвещающие дождь, пробуждают особенные грезы весьма растительного характера, действительно переживающие жажду лугов: скорее бы пролился живительный дождь. Есть часы, когда и человек становится растением, которое жаждет небесной воды.
Шарль Плуа приводит массу аргументов в подтверждение своего тезиса о том, что первоначально Посейдон был богом небесным. Из исконности этого качества Посейдона следует, что власть над океанами ему приписали уже позднее; чтобы Посейдон «работал» богом морей, нужно, чтобы какой-нибудь другой персонаж продублировал его функцию бога облаков. «Абсолютно неправдоподобное явление, – говорит Плуа, – когда бог воды пресной и бог воды соленой – один и тот же персонаж». И Посейдон перед тем, как сойти с небес в море, спустился с небес на землю. Следовательно, сначала он стал, скорее, богом пресной воды, богом земной воды. В Трезене[364] «ему приносят в жертву первины плодов земных». Почитают его под именем Посейдона Фитальмиоса[365]. Стало быть, он – «бог растительного мира». Всякое же растительное божество есть божество пресноводное, родственное богам дождя и грозовых туч.
В первобытных мифологиях родники порождает тоже Посейдон. И Шарль Плуа уподобляет трезубец «волшебной палочке, помогающей, кроме всего прочего, открывать источники». Порою «палочка» эта действует с мужской неистовой силой. Чтобы защитить дочь Даная[366] от нападения сатира, Посейдон метнул трезубец, а тот вонзился в скалу: «Когда он вынимал его, забили три струи, превратившиеся в Лернейский[367] источник». Как видно, у палочки искателей подземных родников, или лозоходцев, весьма почтенная история! В XVIII веке ее нередко называли прутом Иакова[368]; магнетизм ее имеет мужские качества. Даже в наши дни, когда все таланты бывают обоего пола, вряд ли можно встретить «искательниц подземных родников», или «лозоходок». И наоборот, поскольку источники заставляет бить герой, да еще при помощи столь «мужского действия», не нужно удивляться тому, что родниковая вода, как и всякая прочая, есть вода женственная.
Шарль Плуа делает вывод: «Следовательно, Посейдон принадлежит сфере пресной воды». Имеется в виду вся пресная вода вообще, так как у вод, бьющих из тысяч сельских родников, есть «собственные идолы» (р. 450). Итак, при первом обобщении Посейдон является богом, в образе которого слиты мелкие боги источников и рек. Когда же его стали ассоциировать с морем, то это обобщение всего лишь логически продолжили. Между прочим, Роде тоже показал, что как только Посейдон завладевает открытым морем и его перестают связывать с конкретными реками, он уже превращается в своего рода обожествленную идею[369]. Нелишне отметить, что и сам океан хранит воспоминания об этой исконной мифологии. Под понятием «Океанос», говорит Плуа, «нужно подразумевать отнюдь не море, а гигантский пресноводный водоем (ποταμός – греч. „река“), расположенный на краю света» (р. 447)[370].
Как лучше выразить то, что грезовидческая интуиция пресной воды выживает вопреки любым враждебным обстоятельствам? И небесная вода, и мелкий дождик, и приветливый и целебный родник дают нам гораздо более наглядные уроки, нежели вся вода морей. Ведь моря оказались «засолены» благодаря какому-то извращению. Соль грезам мешает – грезам о пресной воде, самым материальным и естественным, какие только могут быть. В естественных грезах первое место всегда будут занимать воды пресные, воды освежающие и воды, утоляющие жажду.
IV
По пресности, как и по свежести, можно едва ли не материально проследить строение метафоры, приписывающей воде все опресняющие (т. е. услаждающие, смягчающие) свойства. Вода, пресная на вкус, в некоторых наглядных примерах становится материально пресной (т. е. сладкой либо смягчающей боль). Пример, взятый из химии Бургаве, продемонстрирует нам, в каком смысле нужно понимать субстанциализацию пресности[371].
Для Бургаве вода как таковая весьма пресна. По существу, «она столь пресна, что, если довести ее до температуры тела здорового человека и затем приложить к наиболее чувствительным частям нашего тела (как, например, роговица глаза или перегородка носа), она не только не причинит ни малейшего ощущения боли, но даже и не вызовет ощущения, отличного от причиняемого жизненными соками[372] нашего организма… в их естественном состоянии». «Более того, если ею слегка смочить сосуды, расширенные от какого-нибудь воспаления и чувствительные к малейшему воздействию, она не причинит им никакого вреда. Будучи пролитой на изъязвленные части тела или на не защищенную кожей плоть… она совершенно не производит раздражений». «Припарки с теплой водой – если приложить их к открытым жилам, наполовину пораженным раковыми опухолями, – утоляют жгучую боль, а отнюдь не усиливают ее». Ясно, как здесь работает метафора: вода смягчает (т. е. как бы «опресняет») боль, ведь она сама пресна[373]. Бургаве делает вывод: «В сравнении с прочими гуморами нашего тела она преснее любого из них, не исключая даже нашего жира, что хотя и весьма пресен, однако все же раздражает наши сосуды необычным и беспокоящим образом: одною лишь своей вязкостью… Наконец, подтверждение ее необычайно мягкого и пресного характера и в том, что всевозможные едкие тела (при соприкосновении с нею) теряют свою естественную едкость, которая делает их столь вредными для человеческого организма»[374].