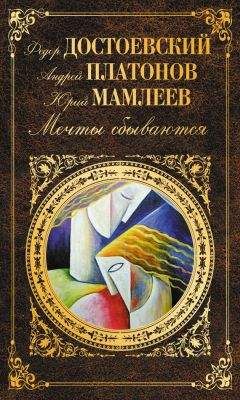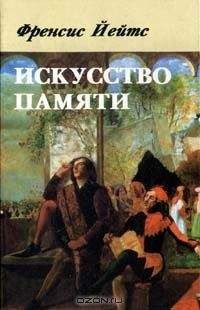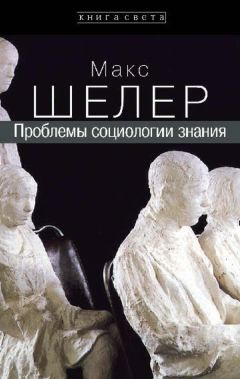Иван Болдырев - Время утопии: Проблематические основания и контексты философии Эрнста Блоха
Неслучайна и близость беньяминовского понятия «актуальное настоящее» (именно так С. Ромашко предлагает переводить Jetztzeit, «время “сейчас”», «теперь-время»[506]) и «теперь» (Jetzt), о котором так часто пишет Блох. Вот его комментарий:
Актуальное настоящее – это настоящее время (Zeit), в котором давно забытое вдруг становится актуальным «сейчас» (ein Jetzt wird). Но не как романтическая реприза: например, полис в эпоху Французской революции был актуальным «сейчас»[507].
Это вторжение Блох соотносит с отказом от однородности и того, что Беньямин называл «пустым» временем. Время, наполненное историей, неповторимо, как блюдо хорошего повара или букет хорошего садовника, не терпящего однообразия. И в этой плюралистичной вселенной восходит звезда будущего, которая (Блох подчеркивает, что это тоже тесно связывало его с Беньямином) предполагает темное, непроявленное начало, «проникновенную радость рано наступающих сумерек» (GU2, 185).
Беньямин и Блох испытывают – каждый в своем контексте – новое понятие современности как некоего моментального и при этом непрекращающегося напряжения, не поддающегося законосообразному описанию, позволяющего постоянно заново сводить счеты с прошлым, открывать новые возможности и отказаться от механического воспроизведения того, что было, в образах будущего. При этом Беньямин видит этот разрыв как некий стазис, невозможность двигаться дальше, торможение, а Блох – скорее как актуализацию возможностей, как резкое, внезапное пробуждение утопических смыслов. Для Блоха настоящее лишено исторического дыхания, если в нем нет утопии.
Такое понимание истории было связано и с новым представлением о марксизме, с преодолением вульгарного исторического материализма. И Блох, и Лукач (в «Истории и классовом сознании», с оговорками, о которых было сказано выше), и Беньямин, столь вдохновленный новой марксистской философией, – каждый на своем языке пытаются противопоставить марксизму II Интернационала новое видение истории и социализма. И в этом они были, несомненно, на высоте своего времени, не доверяя болтовне о «закономерностях исторического развития». Их инструментами были социальная критика и утопическая энергетика религиозности, способная поднять отдельного человека и целые классы на вершину настоящего момента, почувствовать, следуя Бодлеру, подлинную современность и очнуться от мифического похмелья вечного возвращения, сулившего лишь темное однообразие и ужас порабощения.
Такая неудобная философия была принята не сразу. И только потом, уже после Второй мировой войны и концлагерей, в гуманитарном знании приживутся подобные схемы (в виде, например, тезиса о несоизмеримости у Куна или эпистемологического разрыва у Альтюссера и Фуко), но судьба их, да и контексты, будут уже совсем другими.
Метафизические мелочи
В области философии именно Вальтер Беньямин и Эрнст Блох вновь приблизили мышление к предметам, придав ему новую, материально-чувственную форму выражения[508].
Критикуя идеологию прогресса и традиционное понимание истории, Беньямин не отказывается от самих понятий прогресса и развития, он и не мог бы от них отказаться. Но подлинный прогресс он усматривает в невидимом и незаметном, в мелочах, сквозь которые просвечивают лучи новой жизни и отблески нового, становящегося смысла. Перефразируя высказывание Гёте о Лихтенберге, Блох пишет, что везде, где Беньямин касается деталей и мелочей, ему удается проникнуть в самую суть проблемы, отринув штампы и привычные взаимосвязи, мешающие ее увидеть[509]. При первой встрече с Каролой (тогда невестой, а впоследствии – женой Блоха) Беньямин, бродивший в задумчивости, понурив голову, по Курфюрстендамм, на ее вопрос – о чем он думает, ответил: «Милостивая государыня, не обращали ли Вы прежде внимания на то, какими болезненными выглядят марципановые фигурки?»[510].
Слова Блоха можно проиллюстрировать на примере той книги Беньямина, на которую он написал рецензию и которая привлекала его внимание более других – «Улицы с односторонним движением» (1928), – книги, которая маскируется под собрание зарисовок из городской жизни, но на самом деле соединяет актуальную политическую публицистику с тончайшей метафизикой. Вот одна из зарисовок, взятая оттуда.
Просьба бережно относиться к зеленым насаждениям
На какие вопросы мы получаем ответ? Разве не остаются все вопросы прожитой жизни позади, словно деревья, заслонявшие нам обзор? Мы едва ли думаем о том, чтобы их выкорчевать или хотя бы проредить. Мы шагаем дальше, оставляя их позади, и хотя издали мы можем окинуть их взором, очертания их неясны, темны, и тем загадочнее эта чаща.
Комментарии и перевод относятся к тексту как стиль и подражание (Mimesis) к природе: одно и то же явление, но рассмотренное с разных сторон. На древе священного текста они лишь вечно шуршащие листы, а на древе мирского – своевременно поспевающие плоды.
Любящий привязывается не только к недостаткам возлюбленной, не только к женским причудам и слабостям, морщины на лице и родимые пятна, поношенная одежда и неуклюжая походка властвуют над ним гораздо дольше и вернее, чем любая красота. Об этом известно издавна. А почему? Если верно учение, гласящее, что ощущение обитает не в голове, что ощущения от окна, облака и дерева возникают не в мозгу, но скорее в той точке, где мы видим эти вещи, то и при взгляде на возлюбленную мы вне себя. Но тут уже – с мучительным напряжением и страстью. Ослепленное блеском и великолепием женщины, ощущение порхает, как стайка птиц. И подобно тому как птицы ищут убежища в густой листве деревьев, ощущения спасаются в тени морщин, в нелепых жестах и неприметных изъянах любимого тела, куда они забираются, как в безопасное убежище. И ни один прохожий не догадается, что именно здесь, в несовершенствах, в чем-то предосудительном, обитает стремительный любовный порыв воздыхателя (GS IV S. 92)[511].
В этом тексте мы видим не только характерный для поэтики большинства текстов Блоха общий зачин – отвлеченные вопросы, фиксирующие ситуацию нетождественности и неудовлетворенности. Здесь, кроме того, присутствуют многие излюбленные темы Беньямина: это и городской ландшафт, и нерассеянная тьма прошлого, и идея перевода – отголосок длительных занятий Беньямина философией языка, и эротика, и набросок теории познания, в центре которой – аффект. «Неприметные изъяны любимого тела», где «спасается» ощущение, – это не только те самые незаметные подробности, о которых говорит Блох, но и феномены, нуждающиеся в «спасении». Здесь не место касаться всех деталей беньяминовской метафизики, стоит просто показать, к чему относятся слова Блоха и почему его так привлекала именно «Улица с односторонним движением».
В рецензии, написанной в 1928 г. (EZ, 368–371), он говорит, что текст Беньямина – разновидность сюрреалистического мышления[512]. Он словно городская улица, на которой ни один дом не похож на другие, где в каждой лавке продают еще не испробованные на вкус идеи. Блох противопоставляет исчезнувшую, уже ни на что не способную «высокую» культуру новой, массовой, «рыночной» культуре, не притязающей на аристократизм, рождающейся «снизу». Эта «форма ревю[513]» в философии представляет собой, согласно Блоху, подлинное проникновение в современность, «как отпечаток того полого пространства, где без обмана уже ничего завершить нельзя, где лишь частицы встречаются друг с другом и смешиваются» (EZ, 369). Эта новая философская форма – удар левой, импровизация, неожиданное сочетание, «остатки разорванной связи… сны, афоризмы, лозунги» (Ibid.) – фотомонтаж, составленный из примет эпохи[514], восходящее к Максу Эрнсту и Жану Кокто сочленение мифологического и повседневного. Благодаря такому сочленению и завораживают нас сюрреалистические полотна, фильмы и тексты. Монтаж обитает и в эстетической теории, и в поэтике Блоха, стремившегося, создав угрозу стереотипным культурным формам, в самом полотне текста пошатнуть самоуверенную стабильность социального механизма[515]. Но чтобы действительно суметь это сделать, нужны
прежде всего не ухо или глаз, не теплота, добро или изумление, а климатопатическая осязательная способность и вкус. Если можно применить здесь категорию из Бахофена, то в этом мышлении улиц, точнее – пассажей, обрел свое убежище хтонический дух. Как парусники, заключенные в бутылке, как цветущие деревья, заснеженные башни в игрушечных стеклянных шариках, словно хранящиеся там, – так и здесь философемы заключены под витринным стеклом (EZ, 370).
Однако Блох напоминает Беньямину об опасности фетишизации таких мелочей[516].
Между тем подлинные образы… этой прозы… обитают как раз не в раковинах улиток и не в пещерах Митры, вход в которые отделен стеклом, а в открытом общественном процессе, как диалектические экспериментальные фигуры его. Сюрреалистическое философствование – это образцовое оттачивание и монтаж обломков, остающихся таковыми, вне какой-либо связи, демонстрируя подлинный плюрализм. Оно конститутивно как монтаж, который участвует в строительстве реальных черт улицы, так, что не интенция, а обломок находит свою смерть – в истине, и применение к действительности; у улиц с односторонним движением тоже есть цель (EZ, 371)[517].