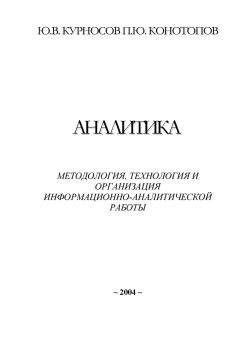Андрей Курпатов - Философия психологии. Новая методология
Тут нельзя не сослаться на А. Эйнштейна, который никогда не забывал о «причине» всего, что мы имеем, делаем, – о психологии. «Положения математики, – писал А. Эйнштейн, – покоятся не на реальных объектах, а исключительно на объектах нашего воображения. В самом деле, нет ничего удивительного в том, что можно прийти к логически согласованным выводам, если сначала пришли к соглашению относительно основных положений (аксиом), а также относительно тех приемов, при помощи которых из этих основных положений выводятся другие теоремы».[121]
Неслучайно люди, практикующие медитацию (как, впрочем, и те, кому удается психотерапевтическая методика «здесь и сейчас»), говорят, что начинают «видеть» мир совершенно по-новому, без зашоренности. Ведь все наши отношения с миром жестко формальны. Мы говорим: «стол» и, за редким исключением, нуждаемся в пояснении – а что это за стол, какой он, в чем его индивидуальность и прелесть. Формой оперировать легче, логика подсказывает, как это делать, и из мира индивидуального, неповторимого по своей сути естества мы погружаемся в далеко не лучший мир формального отношения со всем и вся.
Примечательна в этом отношении критика Владимира Соловьева, разбирающего диалектическую логику Гегеля, которая, по его словам, основывается на утверждении, что «эмпирическое содержание нашего познания зависит от априорных форм». Вот что он пишет: «Гегель утверждает, во-первых, что всякая данная действительность безусловно определяется логическими категориями, а во-вторых, что сами эти категории суть диалектическое саморазвитие понятия такого или чистого понятия самого по себе. Но понятие само по себе, без определенного содержания, есть пустое слово, и саморазвитие такого понятия было бы постоянным творчеством из ничего (образование новой и новой „плюс-ткани“. – А.К., А.А.). Вследствие этого логика Гегеля, при всей глубокой формальной истинности частных своих дедукций и переходов, в целом лишена всякого реального значения, всякого действительного содержания, она есть мышление, в котором ничего не мыслится».[122]
Конечность такого варианта мышления изначально предопределена. Конечно, рассуждать так можно неограниченно долго, но процесс познания при таком способе мышления – блеф. А раз такова судьба логики, язык фактически принужден тащить эту же ношу, повторяя ту же «бестолковую» историю, поскольку если логика – это наука о знаках, то язык – это система знаков. В результате все мы говорим, практически не понимая друг друга, и чтобы достичь этого понимания, нам приходится прикладывать неимоверные усилия – и не только над такими текстами, как этот, но и в личной жизни, а подчас и у магазинного прилавка. Эти противоречия стали бы совершенно очевидными, если бы ученые, трудившиеся над ними, не пытались (видимо, ради ощущения наукообразной безопасности) скрыть (покрыть) их новыми и новыми объяснениями, созданием мета-систем.
Язык перестал быть строгой системой сам по себе (как раз в этом его отличие от математики). В нем нагромождено столько умозаключений (бесконечно далеких от реалий), являющихся по сути лишь объяснениями объяснений, что разобраться теперь в том, что что обозначает, стало совершенно невозможно. Знак в нашем языке стал обозначать или больше, или меньше вещи, но никак не вещь саму по себе. Хотя очевидно, что, дай мы себе труд строго определить значения языковых элементов, мы бы не имели контекстуальных противоречий.
Классическим примером языкового – контекстуального – противоречия считается опыт с брадобреем: в некотором селении парикмахер бреет тех, и только тех, мужчин, которые не бреются сами. Должен ли он брить себя? Считается, что на этот вопрос нельзя дать «непротиворечивого» ответа. Но давайте определимся с терминами. Является ли человек, бреющий самого себя, «брадобреем» или «парикмахером»? Вероятно, нет, хотя бы потому, что это профессия, а профессиональная деятельность – это всегда деятельность для кого-то, в этом ее отличие, например, от хобби. Значит, в тот момент, когда парикмахер бреет самого себя, он не является парикмахером в собственном смысле этого слова, поскольку бреет лишь себя и никого другого. Совершенно очевидно, что материал, представленный нам в качестве «противоречия», просто языковая игра, а знаки, в нем использованные, потеряли свое «значение».
Вместе с тем очевиден и один весьма примечательный, на первый взгляд странный, чисто психологический феномен: нам почему-то нравится манипулировать языком; вслушиваясь в языковое формы, наслаждаясь их красотой, мы подчас совершенно забываем о значении слов, словосочетаний, предложений и, наконец, целых текстов, представленных нам для прочтения. Причем на этом «погорела» чуть не вся русская религиозная философия, в этот же грех впал и экзистенциализм, и феноменология, и бог знает кто еще.
Фактически подводя итог своему «Логико-философскому трактату», Людвиг Витгенштейн показывает неправомочность и внутреннюю противоречивость этого психологического феномена на ниве философии и науки: «Правильный метод философии, собственно, состоял бы в следующем: ничего не говорить, кроме того, что может быть сказано, то есть кроме высказываний науки, – следовательно, чего-то такого, что не имеет ничего общего с философией. А всякий раз, когда кто-то захотел бы высказать нечто метафизическое, доказывать ему, что он не наделил значением определенные знаки своих предложений. Этот метод не приносил бы удовлетворения собеседнику – он не чувствовал бы, что его обучают философии, – но лишь такой метод был бы безупречно правильным».[123]
Справедливости ради следует добавить, что «Логико-философский трактат» Л. Витгенштейна сделан в рамках настоящей, скрупулезной работы со знаками. Позже, впрочем, Л. Витгенштейн осознает, что, хоть такой «метод» и является «безупречно правильным», он же и «безупречно» бессмысленный.
Таким образом, мы оказываемся перед лицом фундаментального противоречия: с одной стороны, именно метод отказа от конкретных языковых значений создает у нас ощущение философствования, и именно он, с другой стороны, не дает нам возможность подступиться к собственно философскому знанию. Мы словно оказываемся перед дилеммой – принять ли, полагаясь на разум, ограниченность научно-философского знания, в котором не будет контекстуальных противоречий и все будет понятно и истинно, но вместе с тем отказаться от перспективы ответов на вопросы «Зачем?» и «Как?», удовлетворяясь знанием «Что?» и «Почему?», или же не принимать ее, доверившись чувству и рискуя потерять всякую научность, а вместе с ней и надежду на истинность.
Впрочем, если основательно разобраться в языке, мы избавимся от концептуальных противоречий. Хотя ограниченность языка очевидна. Он, рожденный как зеркальное отражение логики, построенный по ее принципам, показывает нам, что не способен справиться с возлагаемыми на него надеждами. Он уже давно говорит нам об этом, демонстрируя свою несостоятельность в самой главной своей функции – обозначении, обозначая то больше, то меньше нужного.
Ролан Барт писал об отсутствующей гармонии языка: «А бывает ли гул у языка (под „гулом“ Барт понимал „шум исправной работы“. – А.К., А.А.)? В виде устной речи язык словно фатально обречен на заикание, в виде письма – на немоту и неразделенность знаков; в любом случае все равно остается избыток смысла, который не дает языку вполне осуществить заложенное в нем наслаждение. Но невозможное – не есть немыслимое: гул языка – это его утопия».[124]
Явной эта ограниченность языка, не способного быть комплементарным реальности, не становится лишь по причине поддержки его логикой.
Они – язык и логика – на протяжении весьма длительного времени усердно разрушали друг друга. Когда философов античности стали «трактовать», интерпретировать, язык как средство достоверного обозначения фактически капитулировал. Поиск «смысла» – столь характерная примета нашей эпохи – начался в тот момент, когда мы попытались насытить и без того обозначающий язык новыми значениями. Мы ищем «смысл», когда наталкиваемся на непонятность, а если язык не обеспечивает «понятности», то и появившееся стремление к познанию «смысла», не снабженное новым инструментом, оказывается лишь блужданием по кругу. Его-то, это блуждание, мы и называем «поиском смысла», хотя на самом деле занимаемся, конечно не осознавая того, поиском выхода из этого лабиринта.
Наше познание выросло из логического познания, для которого, собственно, и предназначался наш язык. Одежды нашего языка стали малы для нашего познания, и нам нужен новый язык, но он не родится на свет, если не будет новой основы мышления. Но не будем спешить и обратим внимание на эти странные взаимоотношения нашего нынешнего языка и логики. Противоречие языка не могло не сказаться на логике, но как?