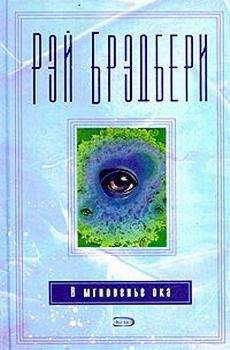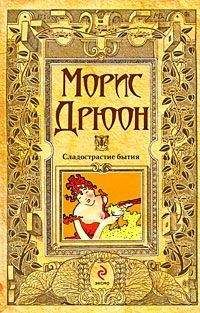Андрей Курпатов - Страх. Сладострастие. Смерть
И тут я невольно вспоминаю «внутренний опыт» Жоржа Батая, который вдохновил его знаменитую книгу:
«Тогда я был еще очень молод, – рассказывает Батай во “Внутреннем опыте”, – вел беспорядочную, полную пустого пьянства жизнь: круг моих непристойных, головокружительных, но исполненных заботы, строгости, крестной муки идей только-только раскручивался… В этом кружении разума брали свое тоска, смятение одиночки, трусость, дурной тон: праздник возобновился чуть позднее. Несомненно то, что легкость и “невозможное”, с которым я столкнулся лицом к лицу, вскружили мне голову. Усеянное смехом пространство раскрыло передо мной свою мрачную бездну. Переходя улицу дю Фур, я стал вдруг неизвестным в этом “ничто”… я отрицал собой эти серые стены, которые меня окружали, и устремился вперед, влекомый каким-то восхищением. Я смеялся божественным смехом, зонтик, опустившись мне на голову, скрывал меня (я нарочно накрыл себя этим черным саваном). Я смеялся так, как, возможно, еще никто и никогда не смеялся. Сокровенность каждой вещи, обнажившись, открылась мне, словно я был уже мертв. Кажется, я остановился посреди улицы, скрывая свой бред под зонтиком. Вроде бы я подпрыгнул (несомненно, в мыслях) – меня сотрясали конвульсии света, и, воображаю себе, я смеялся на бегу. Сомнение не отпускает меня, переполняя тоской. Что значит это озарение? Что это за свет, если даже сияние солнца ослепляло и воспламеняло меня изнутри? Чуть больше света, чуть меньше – это совершенно ничего не меняет; во всяком случае, человек, будь он солнечным или иным, остается человеком: быть всего лишь человеком, не иметь никакой иной возможности – вот что душит, вот что переполняет тяжким неведением, вот что нестерпимее всего».
Батай, вслед за Хайдеггером, открывает нам еще один сокровенный путь к Сущему через сакральный, всепоглощающий Смех. И если для хайдеггеровского Ужаса характерен паралич, некая мертвецкая оцепенелость перед лицом открывающейся тебе тайны, то Смех Батая, напротив, само движение – это бег, это прыжок. Но что самое удивительное, у Романа Виктюка в его «Саломее» – и то, и другое! Ужас танца Саломеи, который действительно обездвиживает меня самым непосредственным образом, сменяется дивертисментом «непристойным» и «головокружительным», который буквально заставляет меня подпрыгнуть («несомненно, в мыслях») и повергает меня в безудержный внутренний Смех (посмотрите-ка, он и сам смеется, стоя на сцене во время этого дивертисмента!). И если, Ужаснувшись, я вдруг ощущаю в себе человека, то, расcмеявшись, я теряю в себе это ощущение, я ощущаю себя чем-то иным, в «иной возможности». Таким образом, в благородном поклоне Роман Григорьевич отдает дань уважения Хайдеггеру, дань почтения Батаю, а сам же создает нечто совершенно новое, что-то третье. Благодаря ему в сердце у меня нет ни холода хайдеггеровского Ужаса, ни обреченности от батаевского Смеха. Я полон, внутри меня Свет, я нашел его Источник, я сохраню его навсегда.
Итак, невольно вернувшись к форме, я наконец могу представить концепцию (взаимосвязь же здесь абсолютная, поразительная!) в этой ее части. Повторю слова Бальмонта: «Оскар Уайльд показал нам лик Дьявола в любви». Что же показал нам Роман Виктюк? Неимоверным усилием воли, превозмогая «сладострастную атмосферу “Саломеи”», которая по сути своей несет разрушение, гибельность, расчленение, подобающее сладострастию, он каким-то странным, непонятным, чудесным образом показывает мне «лик-Бога-в-любви-во-мне». Ужас сменился Смехом, Смех стал Светом, и в лучах этого Света ко мне пришла Любовь. Она и была во мне – зрителе, – она была! Но, униженная и оскорбленная, брошенная в застенки ролей и масок, страха и отчаяния, томилась, не находя ни покоя, ни опыта. Теперь же, вдруг, она скинула с себя этот сор, освободила меня от страха и ожила, воскресла, засияла вновь во всем своем великолепии. Роман Григорьевич режиссировал мной – зрителем. Но разве он знал меня-зрителя прежде, до со-бытия этого спектакля? Он сейчас написал эту Пьесу, я-зритель стал живым свидетелем этого письма, «действия-действования», свидетелем Драматургии Романа Виктюка. Теперь я свидетельствую об этом…
Знак
Наш век – не только век тревоги, наш век еще и век интеллекта («искусственного интеллекта»). Впрочем, взаимосвязь здесь почти очевидна: чем больше мы знаем, тем большего мы боимся. Наше знание подобно колоссу на глиняных ногах, ведь оно не проникает в сущность вещей, не открывает нам сущности явлений, оно лишь скользит по поверхности жизни, оно создает искусственный аналог реальности, ее фантом, ее своеобразное alter ego, лишенное жизненности. Мы обладаем знанием о реальности, но не знанием самой реальности. Наше знание – чистой воды самообман, но себя не обманешь. Человек подспудно ощущает искусственность, негативность своего знания, а значит, чувствует свою некомпетентность, незащищенность, беззащитность перед лицом неизвестности. Иллюзорность этого знания наглядно демонстрирует человеку шаткость его положения. Мы убеждаем себя во всесилии разума, но мы не можем не отдавать себе отчета в том, что все наше знание – это лишь блеф, неправда, ложь, порожденная страхом перед неизвестным. Мы не можем оперировать реальностью, мы можем оперировать только своим знанием о ней, но наше знание – это знание образов, а не сущностей, образы же обманчивы. Чем больше мы производим знания, тем дальше мы удаляемся от реальности, теряем с ней связь, теряем опору в реальности, ту единственную опору, которая может дать нам чувство защищенности и спасти от тревоги и вселенской растерянности.
Современный человек пренебрег ощущением и отдал приоритет разуму. Но разум – это своего рода «надстройка», «довесок», «припарка», тогда как только ощущение по-настоящему связывает нас с реальностью. Разум, поработивший чувствование, лишил нас непосредственной связи с реальностью, с жизнью. Теперь мы не ощущаем жизни, мы только ведем с ней бессмысленные переговоры посредством узурпировавшего все права посредника, нашего разума, нагло передергивающего содержание этой беседы. Но сексуальность и все, что с ней связано – это прежде всего, в первую очередь, и только ощущение, разум же вторгся и на эту запретную для него территорию. Большинство сексуальных проблем современного человека связанно именно с тем, что он не способен чувствовать сексуальность, он невротично занимается бесконечными рационализациями, в этом-то и состоит настоящая сексуальная девиация современного человека. Извращены не формы, а сам процесс сексуальной жизни современного человека.
Разум – это отравленный плод сублимированной сексуальности. Сублимация же вызвана подавлением человеческой сексуальности. Поэтому мы вновь возвращаемся к знаку подавления в «Саломее» Романа Виктюка. Именно подавление заставило нас предпочесть разум чувствованию. Мы используем язык (плацдарм и механизм разума) там, где необходимо ощущение. Язык же служит расчленению. Обозначая, он выделяет, отделяет, членит. Так утрачивается целостность. «В языке, – пишет Жиль Делез, – в сердцевине языка – разум схватывает тело, его жесты в качестве объекта фундаментального повторения. Различие делает вещи видимыми (для разума, – А.К.) и умножает тела; но именно повторение дает возможность быть высказанными, удостоверяет подлинность множественного и делает из него спиритуальное событие». Деятельность литератора в этом смысле весьма неблаговидна. Клоссовски говорит: «У Сада язык – нетерпимый к самому себе – не знает истощения, спущенный с цепи на одну и ту же жертву до конца ее дней». В полной мере эти слова могут быть отнесены не только к писателю маркизу де Саду, но и к Уайльду. Язык в «Саломее», действительно, «спущен с цепи на одну и ту же жертву до конца ее дней».
Именно посредством языка Саломея разрушает единство, целостность тела Пророка. И тут не просто язык, не просто констатация факта, не просто определение и выделение явления, тут апофеоз расчленительной деятельности языка – тут повторение, бесконечное повторение символов реального, что усиливает, утверждает реальность нереального. Не существует «отдельного тела», «отдельной головы», «отдельного рта», но Саломея повторяет и повторяет, повторяет и повторяет, и это бесчисленное повторение «языковых оборотов» символически реализуется: голова действительно отсекается от тела, становится «отдельной головой», хотя нет в реальности такой вещи, как «голова сама по себе». Уайльд, видимо, даже не догадываясь об этом, показывает нам современного человека «во всей его красе»: для современного человека – подавленного и раздробленного – уже не существует целостности; мы действительно можем себе представить «голову саму по себе», но ведь «голова сама по себе» – уже не голова, а то, что было когда-то головою. Современный человек из-за утраты своей природной целостности перестает быть «Человеком Сексуальным», он становится сладострастным «Человеком Порнографом». «В конце концов, что такое Порнограф? – спрашивает Делез и сам же дает однозначный ответ: – Порнограф – это тот, кто повторяет и возобновляет». Для Порнографа не существует целостности человека (единства духовного и физического, психического и телесного), он грезит лишь частями, он смакует эти части, выделяет их, повторяет и возобновляет, чем подпитывает свое неутолимое сладострастие. В этом смысле Порнограф, отдающий предпочтение душе («духовники»), ничем не лучше, чем Порнограф, отдающий предпочтение телу. И в том, и в другом случае Порнографом нарушается целостность, в этом и состоит его чудовищная специфика.