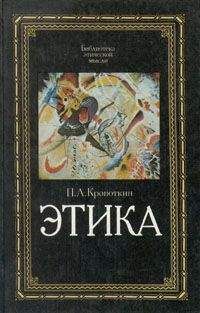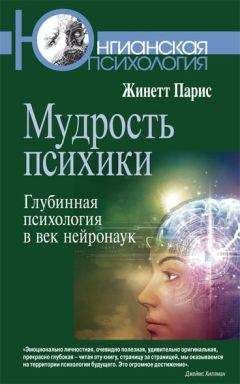Эрих Нойманн - Глубинная психология и новая этика
Согласно Г. Шолему, центральную роль в Каббале играет “Тикун”, мистическое воссоздание разрушенного мира. Здесь мистику предстоит своей деятельностью приблизить Судный День, эпоху Мессии (theMessianicage). В его задачу входит вновь вернуть “целостность и полно ту” божественному и связанному с ним миру. Его работа состоит в том, чтобы присоединить к божественному то, что было от него отделено, воссоединить Шехину, женскую имманентность Бога, которая бродила в изгнании, с трансцендентностью Бога. Способность человека посредством мистических действий выполнить это великое деяние, являющееся актом творчества как в отношении мира, так и в отношении божественного, отражает священное величие человека — а в иудейском мистицизме, соответственно, иудея. Такое перенесение мессианской деятельности в сферу индивида всех времен как раз и представляет собой то, что мы понимаем под актуализацией мессианства.
Временный характер жизни, проведенной вне истории в течение тысячелетнего ожидания, представляет одну из основных опасностей, с которыми встречается полагающийся на свою интуицию иудей, ибо к лишению внешних корней добавляется лишение и корней внутренних. Актуализация мессианства, процесс, высшей точкой которого является известное мистическое движение хасидов, позволяет исключить это временное ограничение.
Спасение священных искр в каждой временной и пространственной точке (в каждом “Здесь” и “Сейчас”) является важнейшей задачей. И с этой задачей сталкивается не только мир, с его обшей потребностью в спасении, но и каждый индивид, ибо каждая отдельная душа имеет свои собственные искры, требующие спасения:
Перед Днем Искупления (DayofAtonement) раввин из Гера говорил хасидам, собравшимся за столом: “Наш учитель Хиллель сказал: „Если я не за себя, то кто за меня?" Если я не выполню свой долг, то кто сделает это за меня? И он также сказал: „И если не сейчас, то когда?" Когда наступит Сейчас? То Сейчас (тот момент, когда мы говорим) не существовало с момента творения и никогда не повторится. До него было другое Сейчас, и у каждого Сейчас есть собственный священный долг: Как сказано в священной книге Зохар (Zohar): „Одежды утра иные, чем вечером"… Это Сейчас не может заменить другое Сейчас, ибо каждый момент окружен особым светом”. |17]
Такая задача индивида в своем глубинном смысле представляет собой актуализацию мессианства. Как говорил Франц Кафка, “Судный день есть трибунал”. Он касается уже не только сообщества, но относится и к отдельной личности. История становится судьбой, битва и решения остаются, но, подобно спасению и апокатастасису, они являются событиями для индивида в рамках психокосмической сферы человека. Если нуминозный фон может прорваться в каждой веши и в каждой ситуации, что приводит к мистической встрече между это и не-эго и, следовательно, к освещенности, то все в мире превращается в символ и в составную часть нуминозного, и мир, выставленный уроборическими мистиками к позорному столбу, чудесным образом наполняется Богом и божественным. Было бы фундаментальной ошибкой принимать сказанное за религиозный пантеизм или панентеизм, ибо для этой формы зрелого мистицизма требуется непрерывный внут-риличностный творческий процесс. Когда в человеке есть свет, он сияет снаружи и внутри; когда же в нем воцаряется темнота и мрак, мир тоже становится темным и мрачным, превращаясь в мир мертвых вешей. Задача живущего человека состоит не в том, чтобы погрузиться в белый первоначальный свет и потерять свою личность, а в том, чтобы дать прозрачность переднему плану мира, позволить первоначальному свету плеромы стать видимым как фону, так и ядру мира, повысив интенсивность своего сияния и свою действенность. Он может это сделать, переживая символ, поднимая некое содержание к сознанию, придавая форму архетипу, через любовь к другому человеческому существу или каким-либо иным образом; в любом случае, мы говорим о встрече самости с Самостью.
Эта символическая жизнь затрагивает все богатые судьбы, лежащие во времени, а не те, которые лежат вне времени. Ибо в каждом уникальном событии, в каждой особой ситуации вся полнота творческого субстрата противостоит эго. Именно такой смысл имеют и виду хасиды, говоря, что если один человек хочет учить другого, ему следует помнить, “что душа его ближнего тоже связана с творцом служением, и что он сам стоит и учит перед Богом”. [18]
Этот уровень синтезирует две установки, которые сначала кажутся взаимоисключающими: одна из них серьезно воспринимает конкретную ситуацию в данном конкретном мире, а другая рассматривает свою встречу с нуминоз-ным субстратом как единственную подлинную реальность. Их синтез образует “символическую жизнь”, иллюстрацией которой может послужить типичная хасидская история:
“Однажды я присутствовал при разговоре моего учителя с вдовой. Он говорил с ней о ее вдовстве, добрыми словами утешал ее, а она прислушивалась к его словам и черпала в них силу. Но я видел, как он плакал, и сам не мог удержаться от слез: и тогда я понял, что он обращался к овдовевшей славе Господа. [19]
Именно в этом смысле мы должны понимать последнюю достижимую стадию преобразующего мистицизма; повсеместно она описывается аналогичным образом. В иудейском мистицизме эта стадия известна под названием “прикрепление” (“adhesion”). Для мистика этой стадии жизнь в мире возможна; ему не требуется ни небо, ни грядущее, ни царство Мессии, ибо все это присутствует в мире, хотя и скрыто под покровом тайны.
На промежуточной стадии мистицизма встреча эго с нуминозным происходит в местах, выбранных природой и даже у творческого человека эта встреча редко случается в ином месте. Однако зрелый мистик конечной стадии живет в постоянной прозрачности, достигнутой его Самостью; и той же прозрачностью характеризуется мир вне и внутри его. Имея в виду сказанное, мы сможем понять конечное и центральное содержание мистицизма последней стадии, то, каким ему видится единство.
Радикальный, интравертный путь отрицания проходит через небеса и преисподнюю и завершается их слиянием; он все дальше уводит от сознания к экстатическому уничтожению это. Космогонический, внешний мистицизм экстраверсии ведет к служению внешнему миру, охватывающему всю жизнь: он завершается пантеистическим или па-нентеистическим захватом, при котором побеждает эго. Однако в антропоцентрической форме мистических переживаний, являющейся формой всякого преобразующего мистицизма, как внутренний, так и внешний миры, воспринимаются как оболочки. Когда эти оболочки становятся прозрачными, на смену многообразию нуминозного приходит единство, при котором Самость проявляется как творческий центр, где генерируются и человек, и мир.
Там, где присутствует подлинное мистическое переживание, нуминозный субстрат прорывается через данный космос. Однако за исключением зрелой формы мистицизма, такой прорыв представляет собой захват, уносящий мистика за пределы человечества и мира в сферу, лежащую вне мира. В таком случае похищенное эго возвращается во враждебный мир, полное неуверенности и тревоги. Однако внутренний, преобразующий мир мистицизм зрелой стадии стремится преодолеть экзистенциальную тревогу и неуверенность. Его миссия будет завершена только после того, как мир перестанут наполнять враждебные, разрушающие формы, после того, как все формы приобретут прозрачность и будет достигнуто видение единства.
Однако видение единства связано с единством бытия. Здесь опять проявление нуминозного соответствует уровню развития личности. Только в интегрированном человеке, связанном с центром, который является его собственным творческим центром и который он воспринимает как творческий центр мира, может замкнуться круг, означающий покой. Для этого освещенного человека мир прозрачен и един. Но такая интеграция, как и все, что происходит на данном уровне, полна парадоксов. Человек этой стадии находится в мире и вне его, в покое и в творческом движении, связан с нуминозным и располагается внутри себя. В нем живет творящее слово и тишина. Он живет в многообразии и единстве.
Таким образом представляется, что мистический человек в нашем широком понимании — это единственный человек, который не удовлетворяется частичными аспектами внешнего и внутреннего мира. Он единственный, чью творческую неуспокоенность нельзя заглушить наркотиками, вносящими мир внутрь фрагментарной временной оболочки, где может укрыться эго. Мистический человек серьезно воспринимает тот экзистенциальный факт, что человек не имеет оболочки, что он представляет собой атом в бесконечной Вселенной. Но несмотря на все это он чувствует, что не потерян и не одинок. Разумеется, ему недоступна сущность человеческого существования, однако нуминозное в человеке одновременно является человечным в нуминозном. Эго, занятое диалогами с Самостью, и получая от нее направление, воспринимаемое им как наполненное смыслом, заново формирует свое сходство с Самостью. Это ведет к парадоксальной форме близости, которая часто выражается через символы дружбы и родства между эго и Самостью, и которая компенсирует изоляцию человека в космосе. Но отмеченное подобие эго и Самости в высокой степени реализуется и в сфере творческого.