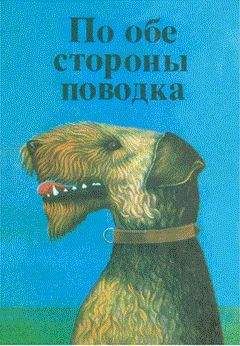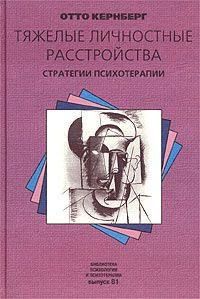Отто Вейнингер - Пол и характер
Великий философ носит титул гения вполне заслуженно и с большой честью. И если философ вечно скорбит о том, что он не художник (именно таким путем он собственно становится эстетиком), то художник не в меньшей степени завидует упорной и настойчивой силе абстрактного систематического мышления философа. Вполне понятно, что они выдвигают такие проблемы, как Прометей и Фауст, Просперо и Кипри-ан, Апостол Павел и «Пензерозо». Поэтому, кажется, и художник, и философ имеют в одинаковой степени право на почет. Ни одному не следует отдавать предпочтение пред другим.
И в области философии не следует особенно усиленно раздавать титул гения, как это было до сих пор. В противном случае моя работа заслуженно понесет упрек в узкой партийности против «положительных наук». Я далек от подобного рода партийности, тем более, что в первую голову она обратилась бы против меня и большей части моем труда. Нельзя назвать Анаксагора, Гейлинкса, Баадера, Эмерсона гениальными людьми. Ни шаблонная глубина (Анжело Силезий, Филон Якоби), ни оригинальная плоскость (Кант, Фейербах, Юм, Гербарт, Локк, Карнеад) духа не в состоянии решить вопрос о применении понятия гениальности. История искусства, как и история философии полны в настоящее время самых превратных ценностей. Совершенно другое дело представляет собою история такой науки, которая беспрерывно подвергает испытанию правильность своих выводов и выдвигает все новые ценности сообразно объему поправок, введенных в нее. История науки совершенно пренебрегает личностью своих самоотверженных борцов. Ее целью является система сверхиндивидуального опыта, из которого отдельная личность совершенно исчезает. В преданности науке лежит поэтому высшая степень «самоотречения», этой преданностью отдельный человек отказывается от вечности.
Глава VI.
Память, логика, этика
Заглавие легко может вызвать крупное недоразумение. Оно дает возможность причислить меня к сторонникам того взгляда, согласно которому логические и этические оценки являются объектами исключительно эмпирической психологии, т.е. представляют собою такие же психические феномены, как ощущение и чувство. Соответственно этому логика и этика должны быть отнесены к специальным дисциплинам представляющим отдельные отрасли психологии.
Я здесь же решительно заявляю, что это воззрение, так называемый «психологизм», в корне ложно и вредно. Ложно – потому, что оно никогда не приведет нас к торжеству дела, в чем мы убедимся еще впоследствии. Пагубно – потому, что оно разрушает психологию, но отнюдь не логику и этику, которых оно едва-едва касается. Господствующая теория ощущений привела к тому, что логика и этика заняли второстепенное место некотором приложения к психологии в то время, как им подобало бы играть роль фундамента психологии. Вот этому-то обстоятельству мы и обязаны «эмпирической психологией» в ее теперешнем виде: груда мертвых камней, которую не в состоянии оживить никакое усердие, никакое остроумие, где прежде всего отсутствует даже отдельный намек на действительный опыт. Что касается безнадежных попыток превратить логику и этику, эти нежные юные побеги душевного мира, в определенную степень сложной психологической науки, то я решительно высказываюсь против Брентано и его школы (Штумпф, Мейнонг, Ге-флер, Эренфельс), против Т. Липпса и Г. Гейманса, а также против аналогичных взглядов Маха и Авенариуса. Я принципиально присоединяюсь к тому течению, которое отстаивается в настоящее время Виндельбандом, Когеном, Наторпом, Ф.И. Шмидтом, в особенности же Гессерлем (который также был психологистом, но впоследствии пришел к убеждению в совершенной неосновательности этой точки зрения). Это именно то течение, которое выдвигает против психологически – генетического метода Юма трансцендентально – критическую идею Канта и с достоинством защищает ее.
Настоящая работа не ставит себе целью разбор общих, сверхиндивидуальных норм действия и мышления. Ее задача скорее заключается в том, чтобы установить различия между людьми, причем она в противовес основной мысли кантовской философии не рассчитывает на применяемость своих положений к любым существам (хотя бы даже к нежным небесным «ангелочкам»). Из всего сказанного следует, что работа эта могла и должна оставаться психологической, не принимая вместе с тем оттенка психологичности. Однако в дальнейшем изложении и именно там где появится необходимость, мы не откажемся от некоторых формальных соображений или, в крайнем случае, от указания, что в том или ином месте единственным судьей является логический, критический или трансцендентальный метод.
Название этой главы оправдывается иначе. Предыдущее, несколько пространное (что объясняется новизной избранного пути) изложение показало, что человеческая память находится в самых интимных отношениях к вещам. Говорить о родстве с ними считалось, по-видимому, недостойным. Время, ценность, гений, бессмертие – все это раскрыло поразительную связь вещей с памятью, связь, о существовании которой до сих пор совершенно не предполагали. Это почти полное отсутствие всяких указаний должно иметь более глубокое основание. Оно, кажется, лежит в тех нелепостях и несообразностях, которыми в столь сильной степени изобилуют теории памяти.
Здесь прежде всего следует обратить внимание на теорию, обоснованную еще в середине XVIII в. Шарлем Бонне и получившую особенное распространение благодаря трудам Эвальда Геринга (и Е. Маха). Эта теория видит в памяти только «всеобщую функцию организованной материи» – реагировать на новые раздражения, более или менее аналогичные прежним, с большей легкостью и меньшей интенсивностью, чем на первоначальное раздражение. По этой теории феномены человеческой памяти исчерпываются опытом, добытым путем упражнения. Они являются особой формой приспособленности в ламарковском смысле. Бесспорно, существует нечто общее между человеческой памятью и фактами, вроде повышенной рефлексии при массовой по-вторности раздражении. Аналогичный элемент лежит в основе того явления, что действие первого впечатления продолжительнее момента раздражения, и в XII главе мы еще вернемся к разбору глубокого основания этого родства. Тем не менее целая пропасть существует между такими явлениями, как возрастание упругости мускула благодаря частой привычке к сокращению, или приспособленность морфиниста и потребителя мышьяка к восприятию все более значительных доз яда, с одной стороны, и воспоминанием человека о своих прежних переживаниях – с другой. В первом случае в каждом новом переживании мы видим отчетливые следы старого, во втором – раньше пережитое состояние снова оживает в сознании со всеми своими индивидуальными чертами. Новый момент выступает с такой яркостью, как в свое время протекал старый. А потому полное отождествление этих двух явлений до того бессмысленно, что можно отказаться от дальнейших рассуждений об этом обще-биологическом взгляде.
С физиологической гипотезой неразрывно связано учение об ассоциации, как теории памяти. Эту связь можно проследить исторически – в лице Гартли, материально же она основывается через понятие привычки. По этой теории память представляется механической игрой соединения представлений, подчиняющейся определенным законам (от одного до четырех). При этом она упускает из виду, что память (беспрерывная память мужчины) есть явление волевое. Я могу что-нибудь вспомнить, если я этого действительно хочу, хотя бы это мне обошлось ценою подавления в себе состояния сонливости. В состоянии гипноза, который воскрешает в памяти все позабытое, воля другого выступает взамен сильно ослабевшей собственной воли. Это лишний раз доказывает, что только воля отыскивает целесообразные ассоциации, что ассоциация вызывается путем более глубокой апперцепции, Здесь пришлось забежать вперед, в дальнейшем мы займемся вопросом об отношениях между ассоциационной и апперцепционной психологиями и постараемся дать надлежащую оценку обеим.
Итак, ассоциационная психология разбивает психическую жизнь на отдельные составные части, с другой стороны – пытается снова соединить сродственные друг другу единицы. В связи с ней стоит третье заблуждение: несмотря на вполне основательные возражения, выдвинутые почти одновременно Авенариусом и Геффдингом (особенно последним), она все еще смешивает память с узнаванием. Узнавание какого-либо предмета не должно вовсе покоиться на самостоятельном воспроизведении старого впечатления, хотя бы в некоторой части случаев новое впечатление и склонно было вызвать старое. Но рядом с этим существует не менее значительное число случаев, когда непосредственное узнавание не намечает никакого дальнейшего движения ощущения, как бы ни к чему дальнейшему не стремится, но виденное, слышанное и т.д. выступает с какой-то специфической «окраской» («tinge»– сказал бы Джеме). Это тот особенный «характер», который Авенариус обозначает именем «das Notal, а Геффдинг – „качеством знакомости“. Для человека, возвращающегося на родину, каждая дорога, тропинка представляется „знакомой“, хотя он не может вспомнить даже того дня, когда он ходил по ней, не знает ее названия и, пожалуй, не ориентируется в ней. Мне может „показаться знакомой“ какая-нибудь мелодия, хотя бы я не знал, где и когда мне приходилось ее слышать. Этот „характер“ (в понимании Авенариуса) знакомости, интимности и т.д. витает, так сказать, над чувственным впечатлением. Анализ ничего еще не знает об ассоциациях, которые в „связи“ с моим новым ощущением должны еще, по мнению кичливой псевдопсихологии, вызвать то непосредственное чувство. Анализ может весьма отчетливо отличить эти случаи от тех, в которых уже слегка и едва заметно (в форме гениды) старое переживание действительно ассоциируется.