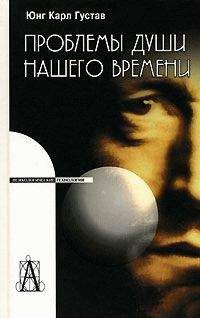Карл Ясперс - Стриндберг и Ван Гог
Он находит, что выражение лица у него «здоровее, чем раньше». Он сравнивает свой портрет с одним из прежних: «Мое лицо с тех пор посветлело, но все равно я так же весь напряжен, как был и тогда. Человек, заряженный электричеством». Вскоре после этого: «Ты увидишь, что мое лицо спокойно, хотя взгляд у меня теперь более пустой, чем раньше».
Это неустойчивое состояние, прерываемое сильными приступами острого психоза, держится с декабря 1888 года. В начале Ван Гог находится в арльской больнице, затем, с мая 1889 по май 1890, в психиатрической лечебнице в Сен-Реми под Арлем, затем, с мая 1890, на свободе под дружеским присмотром доктора Гаше в Овере-сюр-Уаз недалеко от Парижа. 27 июля вечером Ван Гог стреляет в себя; находясь в ясном сознании, он разговаривает с доктором Гаше, куря при этом трубку; 29 июля он умирает. О мотивах своего самоубийства он не сказал ничего; на вопрос доктора Гаше — только пожал плечами. 25 июля он писал брату: «Я хотел бы сегодня, может быть, о многом тебе написать. Но как-то пропала охота, да и нет в этом никакого смысла». 27 июля он начал писать брату письмо, но не закончил его и не отослал. С мало свойственным ему пафосом он писал в нем: «Но несмотря на это, дорогой мой брат, — я всегда говорил это тебе, и я говорю это еще раз со всем убеждением, которое может дать упорная работа мысли, — я говорю тебе это еще раз: я всегда видел в тебе нечто иное, чем просто торговца картинами. Через меня ты сам принял участие в создании некоторых картин, которые останутся даже тогда, когда все смешается… В общем, моя работа принадлежит тебе. Я вложил в нее мою жизнь, и половина моего рассудка ушла в нее…»
Течение болезни (продромальная стадия — 1888, первый острый период — декабрь 1888, затем — частые приступы с просветлениями вплоть до самоубийства в июле 1890) соответствует изменению интенсивности работы. В продромальной стадии она возрастает, превышая прежний «здоровый» уровень; после острого периода такая повышенная работоспособность утрачивается, однако художественная творческая способность сохраняется и даже продолжает развиваться.
Обратимся вновь к письмам и посмотрим, что он сообщает о своей работе.
В марте-апреле 1888 года в Арле он — в «бешенстве работы… так что писать со спокойной головой почти невозможно». В то же время он все еще много пишет о все-таки улучшившемся физическом состоянии; он «в ударе», у него «непрекращающаяся лихорадка работы». Непомерной продолжительности рабочий день — по крайней мере в первое время — очень его утомляет: «Я был измучен». «Это была тяжелая неделя напряженной работы, я стоял там в пшенице на самом солнцепеке». В июне: «Это возбуждение, эта серьезность чувства природы, которое ведет нас, — это возбуждение иногда чересчур сильно; даже не чувствуешь, что работаешь. А между тем мазки ложатся удар за ударом и следуют друг за другом, как слова в разговоре или в письме». У него «меньше потребности в обществе, чем в совершенно сумасшедшей работе… Я тогда только и чувствую жизнь, когда я с дикой силой выталкиваю из себя работу». «Я принимаю в расчет только возбуждение, возникающее в какой-то момент; тогда я отпускаю себя и дохожу до эксцессов». Некоторые работы, которые он сделал «так быстро, как еще никогда не делал», он считал своими «лучшими картинами». «Но когда после такого вот сидения я возвращаюсь домой, то, уверяю тебя, мой мозг такой уставший — да когда это еще так часто, как во время урожая, — что у меня тогда ни единой мысли в голове, и я не могу сделать кучу обычных вещей… Ум тогда напряжен до разрыва, как у актера, играющего трудную роль. В какие-то полчаса ты должен передумать тысячу разных вещей». В конце июля: «Чем больше я расклеиваюсь, чем больше становлюсь больным и изношенным, тем больше я становлюсь художником…» В августе он пишет об одном сделанном им портрете: «Вот моя сила: такого парня за один сеанс заделать». В это же время, в августе, он начинает с удивлением замечать богатство своих мыслей: «У меня куча мыслей для новых картин». «У меня куча идей для работы». «Идей для работы появляется у меня в избытке… я мчусь, как какой-то живописующий локомотив». Появляются еще более сильные выражения: «У меня были сеансы по 12 часов… и потом я спал тоже 12 часов подряд…»; «теперь, когда я начал создавать [предыдущие годы он называет «непродуктивными годами»]. «Я чувствую себя сейчас совсем другим человеком, по сравнению с тем, каким сюда приехал. Я больше не сомневаюсь, я принимаюсь за дело, и это может еще больше возрасти… Я не могу тебе выразить словами, как я очарован, очарован, очарован всем тем, что я вижу. И есть планы на осень, и такое воодушевление, что не чувствуешь, как пролетает время». «Сегодня я проработал с 7 утра до 6 вечера, не шелохнувшись, только несколько кусков проглотил, в двух шагах от моего места, поэтому и работа идет так быстро… В данный момент я погрузился в мою работу с прозорливостью — или со слепотой — влюбленного. В этом смешении цветов есть для меня что-то новое, и я от него совершенно вне себя. — Ни малейших следов усталости… Я тут ни при чем, но я чувствую себя таким прозорливым…» «Во мне все та же полностью сконцентрированная сила, которая требует расходовать ее только на работу». «В некоторые моменты на меня находит такая жуткая прозорливость. Когда природа так прекрасна, как в эти дни, я уже не чувствую себя, и картина нисходит ко мне, как во сне». Речь идет «о напряжении не на жизнь, а на смерть. Я настолько вхожу в работу, что никакими силами не могу остановиться». Снова он говорит о «заделывании» картин, а также о том, что работа одной недели «совершенно изупотребила» его. «Я чувствую себя после этого творческого порыва просто морально раздавленным и физически опустошенным».
После острой вспышки (в декабре 1888) работа вновь на долгое время была полностью дезорганизована, в ней не было постоянной всепобеждающей силы прошлого года, но на краткие мгновения прежняя яростность и прозорливость все же возвращались.
Вначале (в январе 1889) он чувствует подавленность: «Я уже никогда больше не поднимусь на ту высоту, с которой меня сбросила болезнь». «Будут ли у меня когда-нибудь снова силы? Я еле держусь, когда работаю». Затем ему становится лучше. Работа подвигается «весело, и я в нее целиком врос, с закалившимися нервами» (23 января). «Я трудился с утра до вечера не переставая (если только моя работа это не галлюцинация)» (28 января). Он воспринимает работу как целительное «развлечение»; «она у меня поддерживает размеренность, так что я себе этим не врежу». Тем не менее в марте он пишет: «Это только те три месяца, что я н е работаю». Когда он не может работать, ему, как он говорит, «не хватает» работы, она его влечет, «вместо того чтобы утомлять».
После помещения в психиатрическую лечебницу в Сен-Реми он пишет в июне 1889 года: «Чувство долга по отношению к работе снова появляется у меня, и я верю, что все мои способности к работе довольно скоро вернутся ко мне. Только часто работа настолько поглощает меня, что я, наверное, навсегда останусь рассеянным и неспособным больше ни на что в моей жизни». Потом: «Воля снова работать чуточку укрепилась». «У меня огромная потребность в работе, не говоря уже о том, что она меня волнует» (19 июня).
В сентябре интенсивность работы снова возрастает. «Я беспрерывно работаю в моей комнате; это хорошо на меня влияет и прогоняет мои приступы, все эти ненормальные идеи». «Я работаю с утра до вечера». «Я пашу действительно как одержимый. Во мне какая-то рабочая ярость — больше, чем когда бы то ни было». «Я борюсь изо всех моих сил, чтобы справиться с моей работой, и скажи сам, если я сумею, то ведь это будет лучший громоотвод для моей болезни, — я справлюсь с ней». «Моя кисть летает у меня в пальцах так же быстро, как смычок по скрипке».
В апреле 1890 года он снова пишет: «Уже два месяца, как я не могу работать, я просто встал». Но затем наступает новый подъем: «Я тут как-то прогуливался по парку, и ко мне возвратилась вся моя ясность в отношении работы; у меня больше мыслей, чем я когда-нибудь смогу воплотить, и никакого затуманивания это не вызывает. Кисть кладет мазки, словно машина». Он работает «с таким подъемом, что, мне кажется, чемодан упаковать труднее, чем картину написать». «Говорю тебе, моя голова в работе совершенно ясная, и мазки ложатся и сочетаются друг с другом совершенно логично».
Далее следуют еще два таких же месяца в Овере. В это время он пишет о своей работе так: «Рука у меня стала намного увереннее, чем до моей поездки в Арль». «Когда я вернулся, я кинулся в работу, но кисть почти что выпадала у меня из руки. Но поскольку я знал, чего я хочу, то все-таки написал три большие картины».
Если мы теперь рассмотрим его работы в том же хронологическом порядке, но основное внимание обратим на с о — держание работ, на его намерения и собственные толкования, то и тут создастся впечатление некоего изменения, хотя и менее резко выраженного.