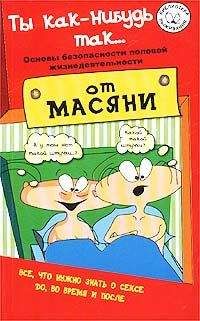Aндрей Курпатов - Дневник «Канатного плясуна»
Только для трусов и зануд ночь кажется бременем, только для них ночь не праздник, но тьма, озвученная лаем собак! В сумраке ходят они, они ищут себе подаяния. Но кто же подает в ночи, отверженные?!
«Только вы сами и есть свой запрет! — вот о чем говорит Ночь страшащимся! — Будет вам дико во мне, когда откроются вам тайны мои, но тогда только и узнаете вы, что не было у вас жизни, что жизнь прошла мимо вас стороною!»
Но не страшен мрак ночи влюбленному, он манит страстную его душу! Ибо нет больше тени и царства теней, но только ночь!
Кто не радовался ночи, тот не знал дня!
Тысячи людей в шествии карнавальном под раскаты музыки торжествующей празднуют триумф собственной радости! — такова моя ночь!
Танцовщики и танцовщицы открывают объятиями ночь! Загорелые тела их оголены, а на лицах — маски: прочь лицедейство, все открыто, и все дозволено!
Жизнь остановилась и катится вспять, потоком радостных криков и смехом веселья! Как же хочется, не играя, но играючи, затеряться в толпе!
До чего же хороши они, эти беззаботные люди, в блеске искрящихся фейерверков, в сиянье бенгальских огней, в отблесках звучных петард!
И как же велика эта песнь, как безоблачна она и чиста! О, как бы хотел я петь и петь эту песнь сквозь слетающие календари моих лет!
Ночь — святительница молчания, ибо замолкают языки вавилоновы, касаясь сахарных нёб! Не терпит ночь речи, ибо не выносит она лжи, великая блудница!
«Молчите! — говорит властительница Ночь. — Все я спрятала в своем черном плаще, только слова ваши не могу я укрыть: так замолчите же или пойте! Хватит глупости и лицемерия, оставьте их до утра, пусть сожжет их Солнце — мой вечный жених!»
«Хуже нет печальной радости», — так говорит эта Ночь. И я вторю ей: «Нет хуже печальной радости».
К чему живете вы, не знающие смеха? К чему вы мудрствуете, не знающие крика восторга? К чему вы любите, не знающие безумья?
Прочь от меня, прочь, нечестивцы, прочь! Безумную песнь свою поет Заратустра под аккомпанемент преданной ему ночи!
«Знаете ли вы большего имморалиста, чем я?» — так говорю я ханжествующим.
«Знаете ли вы души моей свет?» — так говорю я страждущим.
«Знаете ли вы самих Себя?» — так говорю я ищущим.
«Вот вам моя ночная песнь!» — так говорю я обретшим.
Но что же сказать мне тебе, друг мой?
Твой Заратустра.
Танцевальная песнь
Афины
Привет шлет тебе город, в котором даже камни хранят великую тайну близости!
Вот он, великий город, вот он — великий в своей молчаливости!
Как же хорош он, залитый солнцем! Как ворожит его ночь! Сколько в нем радости, сколько печали! Вся история человечества заключена в нем. Взлеты и падения человечества помнят теплые камни города этого, хранящего тайну!
«Что ж так хорошо хранит он историю человечества и не помнит о человеке?» — думал я, когда заслышал божественную музыку, доносившуюся ко мне с моря, и поспешил на сладостные, тягучие ее ноты.
Так бежал я, влекомый чарующими звуками, когда открылась мне площадка, выложенная мраморными плитами, что выходила навстречу бескрайним водам, над которыми в трепетном ожидании зависло вечернее солнце.
Шесть прекрасных девушек со стройными станами, увитые лепестками роз, и шесть юношей прекрасных, как южные кипарисы, с полуобнаженными торсами, танцевали сиртаки под музыку Купидоновой флейты.
Их руки сплелись, подобно молодым виноградным лозам, обнимая покатые плечи, а головы их склонились, словно спелые бутоны роз чайных, что смущены своей девственной красотой.
Музыка текла игриво, словно водные струи по мраморной глади, и нежила, подобно майскому ветру. Привставая на носочки, будто бы на мелководье, двенадцать созданий, как весенняя листва юных, вычерчивали ровные круги на площадке, предназначенной танцу.
Я замер, как на заре замирают безвольные птахи, разбуженные первыми лучами нового дня. Но вдруг оборвались магические всполохи флейты, и кто-то сказал: «Смотрите, смотрите! Это Заратустра — Танцор!»
В мгновение ока окружили меня молодые созданья, щебеча и мурлыкая. «Станцуй свой Танец для нас, Заратустра!» — так обращались они ко мне своими бархатными и шелковистыми голосами.
И я смеялся в ответ божествам: «Вы сами не понимаете, о чем просите Заратустру! Как может он танцевать, когда румяны так ваши щеки, так красивы тела, так задорны звуки вашего юного смеха! Нет, Заратустра не в силах танцевать перед божествами. Лучше уж вы станцуйте для Заратустры свой танец, пусть напитается счастьем его уставшее сердце! А я, так и быть, напою вам песню…»
Рассмеялись они в ответ на мое смущение, разбежались, чтобы занять свои места в танце, и замерли.
Вот что пел великий танцор, когда они танцевали:
«Танцуйте, как птицы танцуют!» — так говорят две женщины: Жизнь и Мудрость — тем, кто готов слышать их голос.
«Кто не разочаровывался, тот, видно, и не был очарован», — так говорит Жизнь и танцует.
«Кто не заблуждался, тот, верно, и не мыслил», — так говорит подруга ее, Мудрость, и танцует.
«Те же, кто вечно заблуждается, те же, кто всегда разочарованы — те не знают и радости Танца!» — так говорят эти женщины.
«Тот не изменял самому Себе, кто не изменял нам», — говорят они и смеются.
«Тот, кто изменил самому Себе, — тот сломал себе ногу. Плохой же танцор из хромоножки!» — так говорят они и заливаются смехом.
«Злится тот, кто сломал себе ногу. Ох, ох! Но кто же виноват в том, кроме него самого?» — так говорят мои женщины и гримасничают.
«Мы любим тех, кто смеется! Мы покидаем того, кто сетует и скрежещет зубами!» — так говорят они всем, кто не сетует и не скрежещет зубами.
«Но как же поймать вас, неуловимые?» — спрашивает их Человек.
«А что же ты, вопрошающий, не танцуешь? Сидючи ты не узнаешь ответа!» — так говорят мои бестии легковесные, не прекращая своего танца.
«Но с кем же из вас танцевать мне, чтобы другая не стала мстить мне из ревности?» — раздумывает Человек.
И смеются они в ответ Человеку: «Кто танцует лишь с одной из нас, тот не танцует вовсе!».
«Но как же мне быть, не умею я танцевать с двумя!» — сокрушается Человек и в отчаянии вскидывает руки.
«Это от того, что неверно ты нас понимаешь, отчаявшийся!» — так говорят они Человеку.
«Что же мне делать?! Что же мне делать?!» — сокрушается Человек.
«Танцевать!» — говорит Жизнь.
«Танцевать!» — говорит Мудрость.
«Танцевать!» — говорят они вместе.
Такую песню пел я моей юности и плакал беззвучно, глядя на чудесный танец юных птенцов, прекрасных, как всякая радость. Но недолго пришлось мне плакать, ибо увлекли меня божественные созданья в свой хоровод.
И вместе мы пели: «Танцевать! Танцевать! Танцевать!»
И свивались руки наши, словно молодые виноградные лозы.
И сгибались тела наши, как сгибается кипарис, повинуясь южному ветру.
И ходили мы на носках по каменным плитам, словно по воде, воздушные.
И колыхались на головах наших лепестки алых роз.
И замерло солнце над горизонтом, и упало за горизонт, как только отзвучали последние ноты нашего Танца.
«Идите же спать, идите любить!» — так говорил я к юным моим божествам.
Они же смеялись: «А как же ты, Заратустра?!»
«Что смеетесь вы, безвозрастные? Разве же хромоног Заратустра? И разве закончился его Танец?»
И зарделись их щеки, и побежали они в город, где даже камни хранят близости великую тайну.
Знаешь ли ты тайну свою, друг мой? И что эта тайна, если не Танец?
Твой Заратустра.
Надгробная песнь
Каир
Здравствуй, друг мой, здравствуй!
Сердце мое плачет в городе, где даже пирамиды гибнут под бременем лет!
Хорошо знаю я, что не любят люди слез ничьих, кроме собственных. Выслушаешь ли ты, друг мой, песню заунывную Заратустры, что разрывает сердце его?
Хватит ли нежности у тебя к другу слушать музыку его слез? Силен ли ты настолько, чтобы выдержать слабость чужую, позабыв на мгновение о собственной?
Вот о чем спрашиваю я: будешь ли ты другом мне?
Сел я на белый корабль и отправился по печальному морю в страну вечных песков. Тяжело было на душе у Заратустры, когда видел он недвижимое море. Тяжело было на сердце его, когда видел он пески недвижимые.
Но не выдержало и взвыло от боли сердце мое, когда увидел я, что даже вековые пирамиды рушатся под бременем лет, рушатся даже памятники смерти!
О сокровенном моя надгробная песнь: о разочарованиях моих! И разочарования эти: знание, любовь, надежда, вера, воля и верность!
Было когда-то и мне шестнадцать, имел и я надежду, что есть мудрецы, обретшие знание, а потому и я могу обрести его. И была у меня вера в любовь, ибо верил я, что возможно любить. Была и у меня воля быть верным, ибо думал я, что есть вечное.