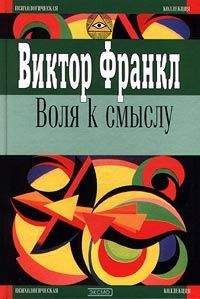Виктор Франкл - В борьбе за смысл
Колле заключает свои соображения следующими словами: "Язык психиатрии слишком беден, чтобы выразить в понятиях все то, что наблюдает эксперт при обследовании этих людей. Особенно опасным мне кажется с помощью расплывчатого понятия "невроз" давать официальным инстанциям видимость научного диагноза" [14]. Свести перешедшие в хроническую форму депрессии и другие психореактивные нарушения под общим сборным понятием "невроз" Колле помешал очевидный факт полного краха жизни этих людей. Не только арест и вызванные им телесные и душевные невзгоды оказали на них травмирующее воздействие. Эту жестокую участь пришлось вынести и многим военнопленным. Однако "у тех, кто был лишь пассивной жертвой оголтелого расизма" и "обычно пережил утрату всей семьи, на депрессию мало влиял даже факт освобождения" (Хук).
3. Психотерапия в концлагере
Возможности психотерапии были, естественно, в лагере крайне ограничены. Гораздо больше, чем можно было добиться разговорами, помогал в этом отношении пример. Никто не ждет от нас рассказов о той "малой" и малейшей психотерапии, которая осуществлялась в форме импровизаций-на плацу, на марше, в котловане или в бараке. Последнее, но немаловажное-нам приходилось заботиться о предотвращении самоубийств. Мы организовали службу информации, и о любом проявлении мыслей о самоубийстве или даже намерений нам незамедлительно сообщали. Что было делать? Любая попытка вновь поднять дух людей в концлагере предполагала, что нам удастся направить их на какую-то цель в будущем. Тот же, кто уже не мог больше верить в будущее, в свое будущее, был потерян. Вместе с будущим он утрачивал и духовный стержень, внутренне ломался и деградировал как телесно, так и душевно. Чаще всего это случалось довольно внезапно, в виде своебразного кризиса, проявления которого были хорошо известны сколько-нибудь опытным заключенным. Знаменем, под которым предпринимались все попытки психотерапевтической помощи заключенным, была апелляция к воле к жизни, к продолжению жизни, к выживанию в лагере. Однако мужество жить или соответственно усталость от жизни оказывались всякий раз зависящими единственно лишь от того, имел ли человек веру в смысл жизни, его жизни. Девизом всей психотерапевтической работы в концлагере могли бы служить слова Ницше: "У кого есть Зачем жить, может вынести почти любое Как". "Зачем"-это содержание жизни, а "Как"-это были те условия жизни, которые делали жизнь в лагере столь тяжелой, что ее можно было выдержать, лишь принимая во внимание ее "Зачем". Нужно было довести до сознания заключенных, поскольку то и дело представлялась для этого возможность, это "Зачем" их жизни, их жизненную цель. Тем самым удавалось внутренне поднять их вровень с ужасающим "Как" их нынешнего существования, с кошмарами лагерной жизни и помочь им выстоять перед ними.
В любой психотерапии, к которой приходилось обращаться в лагере, играло роль то, что я назвал "стремлением к смыслу". Но в той чрезвычайной пограничной ситуации, в которой находился человек в лагере, тот смысл, стремлению к осуществлению которого он должен был посвятить себя, должен был быть настолько безусловным, чтобы он охватывал не только жизнь, но и страдание и смерть. Ведь жизнь, смысл которой держится или рушится в зависимости от того, помогает он спастись или нет, жизнь, смысл которой зависит от милости случая, не стоила бы, пожалуй, того, чтобы вообще быть прожитой. Итак, мы говорили о безусловном смысле жизни. При этом следует, конечно, различать безусловность, с одной стороны, и общепринятость-с другой, по аналогии с тем, что говорил К. Ясперс об истине [12]. Безусловный смысл, на который мы указывали в лагере сомневающимся и отчаявшимся в нем людям, отнюдь не был общим и расплывчатым, скорее как раз наоборот, это был конкретный, наиконкретнейший смысл их личного существования. Это можно пояснить следующим примером: как-то раз в лагере передо мной сидели два человека, оба решившие покончить с собой. Оба твердили стереотипную формулу, которую то и дело слышишь в лагере: "Мне больше нечего ждать от жизни". Нужно было попытаться произвести в них своего рода коперниканский переворот, чтобы они уже не спрашивали, ждать ли и что им ждать от жизни, а получили представление о том, что, наоборот, жизнь ожидает их, что каждого из них, да и вообще каждого, что-то или кто-то ждет-дело или человек. Действительно, очень скоро обнаружилось, что- вне зависимости от того, чего оба узника ожидали от жизни,-их в жизни ожидали вполне конкретные задачи. Выяснилось, что один из них издает серию книг по географии, но эта серия еще не завершена, а у второго за границей есть дочь, которая безумно любит его. Таким образом, одного ждало дело, другого-человек. 0ба в равной мере получили тем самым подтверждение своей уникаль-ности и незаменимости, которая может придать жизни безусловный смысл, невзирая на страдния. Первый был незаменим в своей научной деятельности, так же как второй - в любви своей дочери.
Американский военный психиатр Нардини [20], сообщивший о своих наблюдениях над американскими солдатами в японском плену, не упустил случая констатировать при этом, насколько шанс выжить в заключении зависел от отношения человека к жизни, от его духовной установки в конкретной ситуации. Если, в сущности, была лишь одна психотерапия, помогавшая людям выдержать заключение, то эта психотерапия была в определенном смысле предначертана. Она неизбежно сводилась к стремлению доказать человеку, от которого требовалось мобилизовать свою волю к выживанию, что это выживание-его долг, что в нем есть смысл. Однако задача врачевания души, которая в лагере выступала как задача врачебного спасения души, осложнялась в придачу ко всему тем, что люди, с которыми приходилось иметь дело, в среднем, как правило, не могли рассчитывать на выживание. Что можно сказать им? Но и здесь обнаруживалось, что в сознании каждого незримо присутствует кто-то, кого, может быть, уже давно нет в живых, но он все же каким-то образом присутствует здесь и сейчас как интимнейший собеседник, Ты. Для многих это был первый, последний и вечный собеседник--Бог. Кто бы, однако, ни занимал это место высшей и последней инстанции, важен был лишь задаваемый себе вопрос: "Что он ждет от меня?"- что означало: "Какое отношение?" В конечном счете было важно именно отношение к страданию и смерти, с которым человек был готов страдать и умереть. Как известно, savoir mourir-comprendre mourir-это квинтэссенция любого философствования.
Человеку важно умереть своей смертью-"своей" в том смысле, который придавал этому высказыванию Рильке. Своей-значит, осмысленной, хотя и по-разному: ведь смысл смерти, точно так же, как и смысл жизни, у каждого свой, глубоко личный. Тем самым "наша" смерть задана нам, и мы несем ответственность по отношению к этой задаче так же, как и по отношению к задаче жизни. Ответственность-перед кем, перед какой инстанцией? Но кто мог бы ответить на этот вопрос другому?
Разве не решает в конечном счете каждый для себя этот последний вопрос? Какое имеет значение, если, например, один из соседей по бараку ощущал эту ответственность перед своей совестью, другой-перед своим богом и третий-перед человеком, который был далеко. Во всяком случае, каждый из них знал, что где-то есть кто-то, кого нельзя увидеть, но кто видит его, кто требует от него, чтобы он "был достоин своих мучений", как сказал однажды Достоевский, и кто ожидает, что он "умрет своей смертью". В лагере потерял силу афоризм: "Primum vivere, deinde philosophari", что означает примерно: сначала останься живым, а потом посмотрим, потом мы продолжим разговор. В лагере имело силу скорее утверждение прямо противоположное: "Primum philosophari-deinde rnori"-- ответь сам себе на вопрос о конечном смысле, и тогда можешь с высоко поднятой головой принять мученическую смерть.
"Обычно человек живет в царстве жизни; в концлагере же люди жили в царстве смерти. В царстве жизни можно уйти из жизни, совершив самоубийство; в концлагере можно было уйти только в духовную жизнь. Только те могли уйти из царства смерти, кто мог вести духовную жизнь,- пишет Коэн.---Если кто-то переставал ценить духовное, спасения не было, и ему приходил конец. Сильное влечение к жизни при отсутствии духовной жизни приводило лишь к самоубийству". "Многие авторы,- продолжает Коэн,-согласны в том, что огромное значение имеет, живет ли заключенный духовной жизнью в какой-либо форме" [5]. Коэн называет Каутски, де Винда, Кааса, Врийхофа и Блюма. Если заключенный обнаруживал, что он не может больше выносить реальность лагерной жизни, он находил в своей духовной жизни возможность выхода, которую трудно переоценить,-возможность ухода в духовную сферу, которую СС не в состоянии разрушить... Духовная жизнь заключенного укрепляла его, помогала ему адаптироваться и тем самым в существенной степени повышала его шансы выжить.
Чувствительные люди, с детства привыкшие к активному духовному существованию, переживали тяжелую внешнюю ситуацию лагерной жизни хоть и болезненно, но, несмотря на их относительно мягкий душевный нрав, она не оказывала такого разрушительного действия на их духовное бытие. Ведь для них как раз был открыт путь ухода из ужасающей действительности в царство духовной свободы и внутреннего богатства. Только так можно понять тот парадокс, что иногда люди хрупкой телесной организации лучше переносили лагерную жизнь, чем физически сильные натуры. Я сам все время старался прибегать к средствам, позволявшим мне дистанцироваться от всего страдания, которое нас окружало. Я пытался объективировать его. Я вспоминаю, как однажды утром я шагал из лагеря на работу и чувствовал, что уже больше не в состоянии выносить голод, холод и боль в моих вздувшихся от голода и по этой причине засунутых в открытые ботинки, подмороженных и нарывающих ногах. Моя ситуация представлялась мне безотрадной и безнадежной. Тогда я представил себе, что я стою на кафедре в большом, красивом, теплом и светлом конференц-зале, собираюсь выступить перед заинтересованными слушателями с докладом под названием "Психотерапия в концентрационном лагере" и рассказываю как раз о том, что я в данный момент переживаю. С помощью этого приема мне удалось как-то подняться над ситуацией, над настоящим и над страданиями и увидеть их так, как будто они уже в прошлом, а я сам, со всеми моими страданиями, представляю собой объект научно-психологического исследования, которое я же и предпринимаю.