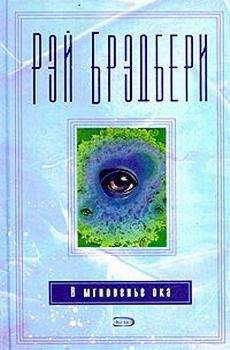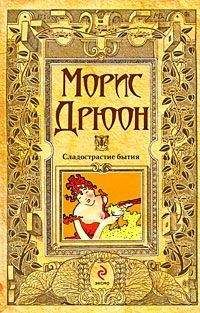Андрей Курпатов - Страх. Сладострастие. Смерть
Оскар, как мы уже говорили, рос в странной и, наверное, не вполне подходящей для ребенка обстановке. Он пытался подражать нежно любимой им матери, избегал шумных мальчишеских игр и, вероятно не без внутреннего напряжения, ощущал свою инаковость. Борьба за собственную уникальность, наверное, самое трудное из сражений на поле человеческой психологии. Нам кажется это странным, но быть «Другим», не таким, как все, «социальному животному» (так человека назвал в свое время еще Аристотель) трудно, а в каком-то смысле даже противоестественно, ведь индивидуализм есть своего рода протест, вызов, брошенный обществу, которому ты же и принадлежишь, без которого ты немыслим. Внутренние комплексы постепенно снедают мальчика. Он полный, слабый и болезненный, у него красивый высокий лоб мыслителя и лучащиеся глаза, но нижняя часть лица, по свидетельству современников, была в каком-то смысле «даже безобразной». В приторной, лоснящейся атмосфере аристократического дома, пропитанного лицемерием, невоздержанной сексуальностью отца и благоуханным, видимо, не вполне удовлетворенным эротизмом матери, сладострастные мечты возникают самым естественным образом. Но внешность мальчика, с годами лишь ухудшавшаяся (теперь он высок, а оттого кажется неловким), обостряла его внутренние комплексы, и как своего рода протест у него «прорезается голос», голос певца сладострастия. Но сладострастие человека, страдающего от комплекса неполноценности, требует партнера, оно не может удовлетворить свою ненасытную жажду в полном одиночестве, и тут возникает новая проблема.
Психологи, в особенности после и под влиянием теоретической концепции Альфреда Адлера, склонны расценивать яркую творческую активность человека, как своего рода сверхкомпенсацию чувства неполноценности. А социальные психологи описывают феномен «ровни», согласно которому мы подыскиваем себе партнера, который был бы так же привлекателен, как и мы. Но если требования к партнеру завышены (а у Оскара они просто не могли быть ниже самых высоких!), то все большего и большего мы требуем от самих себя. Подобная психологическая сшибка напоминает изматывающий бег по кругу, где с каждым новым витком интенсивность и скорость увеличиваются, превращаясь в настоящее орудие пытки. Результатом этого станут произведения искусства, но цена, которая заплачена за них автором, по сути, цена его жизни. На так называемом «социальном рынке» для привлечения достойного «покупателя» мы выставляем все свои достоинства, и если внешняя красота не входит в их число, то нам просто необходимо компенсировать этот недостаток избытком какого-то другого качества, и талант вполне может выполнить роль такой «гири». Glenn Wilson очень тонко подметил: «Мужские достижения в конечном счете являются знаком ухаживания, значение этих достижений аналогично значению павлиньего хвоста». Этологи, правда, посмеиваются, ведь павлиний хвост – это самое нецелесообразное изобретение эволюции, поскольку он лишил этих птиц способности летать; сексуальный инстинкт перевесил у павлинов базальный инстинкт самосохранения; благодаря своему «богатому убранству» они стали лучшей добычей для любого хищника. У человека вообще, а у Оскара Уайльда в особенности, этот «хвост» достиг почти катастрофических размеров, не только перевешивая инстинкт самосохранения, но поглощая и даже уничтожая его. Так, впрочем, и рождается пассионарность, суть которой состоит именно в бесстрашном (из-за неосознанности) и безрассудном (из-за силы всепоглощающей страсти, заглушающей разум) вызове инстинкту самосохранения.
Учитывая сказанное, крайне примечательна фабула, внешнее проявление этого протеста – сверхкомпенсации гипертрофированного чувства неполноценности у Оскара Уайльда: он, страдающий от своей некрасивости, непривлекательности, становится страстным певцом красоты, моды, внешности. Именно там, где он более всего чувствует себя уязвимым, он прилагает неимоверные старания, силясь, кажется, превозмочь реальность, опрокинуть ее и утвердить несуществующее, как данность. Он создает целую «философию нереального», он так заразительно говорит о Красоте, что в какой-то момент начинает казаться, будто бы именно в этом и состоит его единственное и самое важное достоинство. Он вкладывает в свои слова об Эстетике столько страсти, что, кажется, еще чуть-чуть – и эта Галатея действительно оживет. Его елейное пение звучит настолько убедительно, что мы неизбежно начинаем ему верить, этому чарующему «соловью», а не собственным глазам! В наших глазах он становится красивым, красавцем, олицетворением самой Красоты. Уайльд сравнивает себя с Аполлоном, которого окружают бесчисленные Гиацинты и Кипарисы, красота которых, может быть, лишь только отблеск его неземного великолепия. А ведь это не так, и лучше всего об этом знает сам Уайльд!
Сладкий дурман его слов свел нас с ума, запутал, выдал вымысел за реальность. Но где-то глубоко внутри своей несчастной и истерзанной души бедный Уайльд каждую секунду, каждый миг помнит, что его красота – лишь сладкий вымысел, лишь миф, блеф, одеяние голого короля. И поэтому страх потерять этот напускной лоск, услышать обличающий его наготу голос снова одолевает Уайльда, снова и снова, со всей своей безудержной силой. Оскар боится вывести нас из гипнотического транса своего пения. Сирена ужасна, но это ее тайна, и никто (кроме нее самой) не знает этой правды; и лишь Сирена прекратит свое пение, лишь только мы перестанем внимать ее сладостным трелям, эта правда откроется, напускная красота растает как дым, и скрываемое ею уродство покажется нам еще более отвратительным, чем есть на самом деле, ибо реальность не оправдает наших ожиданий. Уайльд сам загнал себя в этот угол, и у него нет другого пути, как только продолжать петь и петь о красоте, о ценности красоты и внешности, превозмогая усталость и немыслимую душевную муку этого чудовищного самообмана.
Теперь Уайльд – идеолог сладострастия, он эталон эстетизма. «Души нет, – утверждает Уайльд, – есть лишь красота удовольствия и удовольствие от красоты». Чем не идеология сладострастия? Внешняя складность и убедительность уайльдовских мировоззренческих пассажей поражает, но не спешите принимать убедительность, с которой они произносятся, за веру в них со стороны говорящего. Мы имеем дело не с тем, кто верит в то, что создает, а создает, чтобы верили те, кто внимает. Красота для Оскара Уайльда – это лишь средство защиты, способ сверхкомпенсации, постепенно переродившийся в нечто большее. Это «большее» и погубило по-настоящему великого поэта. На «рынке» социальных отношений теперь он самый дорогой бриллиант в тысячи каратов. И он находит красавца себе «под стать», мальчика-Нарцисса, радующего глаз, самовлюбленного и мило-бестолкового в своем самолюбовании. И, как гром среди ясного неба, Уайльда поражает сладострастие, созданный им миф вырывается на свободу, материализовался, подчиняя себе всю жизнь, все мысли и чувства своего создателя, Уайльд сам начинает верить в придуманную им сказку.
Позже этот Нарцисс бросит Оскару фразу, которую несчастный поэт будет повторять про себя бессчетное множество раз, снова и снова обыгрывать, пытаясь оспорить и дискредитировать заключенную в ней мысль. И хотя контраргументация Уайльда будет, как всегда, безупречной, его душа, его подлинное «я», спрятанное за множеством изящных масок и величественных поз, знает, что это правда, и именно поэтому, именно потому что Уайльд знает, что это правда, он так настойчиво, с таким болезненным и очевидным внутренним надрывом пытается опровергнуть слова, произнесенные Бози. Бози скажет ему: «Когда вы не на пьедестале, вы никому не интересны. В следующий раз, как только вы заболеете, я немедленно от вас уйду». «Какая же грубость душевной ткани заключена в этих словах!» – воскликнет Уайльд в своей «Исповеди». Но разве душу искал он в своем Нарциссе?! Для Нарцисса падший Уайльд не интересен и не может быть интересен.
Только Роберт Росс будет любить Оскара Уайльда всяким (точнее таким, каким Уайльд и был на самом деле, открываясь лишь для самых близких, в число которых Бози или не входил вовсе, или был настолько груб, что не понял искренности и подлинности влюбленного в него поэта), причем падшим, может быть, даже больше, нежели парящим и признанным. «Милый Робби» не интересовался «пьедесталом», он был той Ласточкой из уайльдовской сказки, которая разделила судьбу своего Принца, оказавшись и в той мусорной куче, куда бросили разбитое оловянное сердце поэта «городские советники», и на небесах, куда вознес их Ангел Господень. В муках тюремного заключения Оскар поймет и оценит преданность Робби, Робби-Иоканаана-Иоанна, как это гениально показал Роман Виктюк в своей «Саломее», в созданной им сцене «Тайной Вечери».
Сущностная ассоциация (Робби-Иоканаан-Иоанн), которая создана Романом Виктюком в этой сцене, раскрывает нам подлинный смысл отношений Уайльда и Робби; Робби предстает перед нами одновременно и в своем собственном образе, и Пророком Иоканааном, и любимым учеником Христа – Иоанном. Робби был действительно «пророком» Уайльда, самоотверженно выполнив роль душеприказчика великого поэта, до конца оставаясь пропагандистом его творчества, бережно сохранившим произведения Уайльда для потомков, несмотря на все немыслимые грязные нападки со стороны прессы и недоброжелателей; Робби стал пророком Уайльда для нас. Но в полной мере он был и апостолом Иоанном Оскара Уайльда, поэт любил Робби, а Робби стал его биографом («Богословом»). Именно он, Робби, единственный снимет шляпу, когда поверженного Уайльда будут вести под конвоем сквозь беснующуюся от ненависти толпу. Оскар оценит этот поступок Роберта Росса в своей «Исповеди», как проявление величайшего мужества и великодушия. И если прежде, описывая эту же сцену и сущностную ассоциацию Бози-Саломеи-Иуды, мы говорили, что Роман Виктюк утверждает непререкаемую истину о том, что предательство – это всегда предательство, то здесь, в отношении Робби-Иоканаана-Иоанна, Роман Григорьевич говорит о еще более важном, что верность, преданность и любовь – это всегда верность, преданность и любовь. Он словно бы заново, с еще большей глубиной и проникновенностью произносит слова, некогда сказанные Уайльдом: «Теперь мне кажется, что Любовь, какова бы она ни была, может объяснить тот неимоверный избыток страдания, которым переполнен мир».