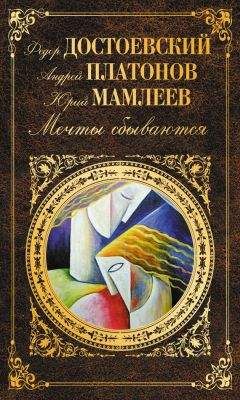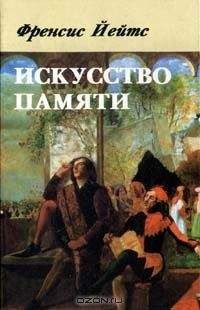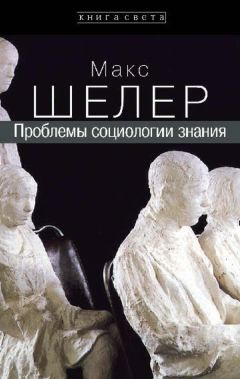Иван Болдырев - Время утопии: Проблематические основания и контексты философии Эрнста Блоха
Более общие гностические мотивы – это дуализм (онтологический, а равно и гносеологический), неизбежный скепсис по отношению к позитивному научному знанию и прогрессу[328], представление о внешнем мире и реальности тела как о грандиозной иллюзии[329], в основе которой – хаос, надежда на преодоление этой иллюзии через погружение в себя и экстатический опыт. Гнозис позволяет выйти за пределы вещного мира, указать вещам их «утопическую судьбу» (GU1, 339), постичь мировой процесс борьбы света и тьмы и найти себе место в этом процессе.
Блох познакомился с гностицизмом в том числе и через Лукача, активно интересовавшегося гностическими темами в Гейдельберге, особенно в 1911 г., в эпоху самого близкого их общения. Конечно, мог на него повлиять и Шеллинг[330]. Блох постоянно пользуется гностической терминологией, ссылается на гностиков[331], а главное – использует их идеи.
Надо сказать, что гностическая образность не исчезает и в поздних текстах Блоха. Вселенская тьма и новый свет, надежду на который несет новое искусство, появляются в статьях об экспрессионизме 1930-х годов[332]. «Принцип надежды» начинается с гностической стилизации: «Кто мы? Откуда мы? Куда мы идем? Чего мы ждем? Что ждет нас?» (PH, 1)[333]. Именно на эти вопросы должен дать ответ гностик, и именно в такой роли мыслит себя Блох. Заканчивается же эта книга надеждой, что «в мире возникнет то, что является всем в детстве, но где еще никто не был: родина» (PH, 1628). Эта фраза, которая, по мнению Якоба Таубеса[334], является некой вариацией из Маркиона в трактовке Адольфа фон Гарнака (вопрос о том, был ли еретический писатель II в. н. э. Маркион гностиком, здесь подробно рассматриваться не будет), характеризует важный постулат утопической философии: в мире через нас возникает нечто всецело новое, которое вместе с тем есть порождение самых темных, неотчетливых наших способностей.
Весь тот пафос мироотрицания, который был столь характерен для гностиков, остается и у Блоха: «Мир сей – это ошибка, он ничтожен, и пред лицом абсолютной истины единственное его право – погибнуть» (GU2, 287). Природа – тюремная клетка, в которой томится человечество (Ibid., 336f.). Убогому, падшему материальному миру, могуществу тьмы, противостоит светлая сила субъективности. Лишь после апокалиптического переворота станут различимы окончательные контуры нового мира. Способствовать этой революции должно, согласно молодому Блоху, тайное, непроявленное знание. В частности, он говорит и о божественной искре, о сокрытом бытии божества в глубинах человеческой души (Ibid., 48, 257), о дуализме Бога творения, мира сего, и Бога спасения и любви, который еще не пришел (GU1, 441; GU2, 335). «Плохой» Бог выступает в разных обличьях, но всюду как враг, кровавый тиран, «солидный Господь для солидных господ», свою власть и лишь ее отождествляющий с законом, владыка мира несправедливости и угнетения, застывшего и прогнившего языческого царства. Застывшего, ибо не дающего осветить мир силам души, прогнившего, ибо без этого мистического света мир не исполнит своего предназначения, не выйдет за пределы плоской и унылой самореференции, то есть за свои собственные пределы.
У Блоха есть и такое гностическое рассуждение:
Незнание вокруг нас есть последнее основание явления мира сего, и именно поэтому знание, молния будущего ведения, что пронзает нашу тьму… составляет неукоснительное в своей достаточности основание для явления иного мира, для прибытия к нему (GU2, 227; ср.: GU1, 389).
Само представление о том, что знание есть некий инструмент преобразования мира, искупления, что обретение знания эквивалентно спасению, объединяет гностицизм с марксизмом, поэтому нет ничего удивительного в том, что заключительную часть «Духа утопии» Блох снабдил заглавием, на первый взгляд весьма эксцентричным, – «Карл Маркс, смерть и апокалипсис»[335]. Взорвать наш мир изнутри, по Марксу, должно именно познание законов капитализма, понимание неизбежности его конца, осознание глубокой несправедливости капиталистической эксплуатации. Гностики говорят, конечно, о другом знании, но Блоху важен их революционный пыл, и ради него он мог не замечать спутанности некоторых гностических мифологем.
Эсхатология раннего Блоха, несомненно, отмечена воздействием Маркиона. Вслед за Маркионом он прокламирует радикальное уничтожение старого мира и столь же радикальное его обновление. Оно происходит в глубинах души, но «вещи просыпаются вместе с нами», «ищут своего поэта» (GU1, 387, 335), и весь мир переживает утопическое перерождение. В одно время с «Духом утопии» писалась и опубликованная в 1921 г. книга Адольфа фон Гарнака «Маркион. Евангелие чуждого бога»[336], где учение Маркиона объявлялось ключевым для понимания возникновения христианства как самостоятельной религии. Отказ от иудаизма и от Ветхого завета, отрицание связи между Богом-Отцом и Христом, утверждение совершенно новой религии – все эти черты маркионизма способствовали, по Гарнаку, автономизации христианства.
Надо сказать, что идеи фон Гарнака оказались в центре напряженной политической дискуссии в Германии 1920-х годов. Отказ от иудейской религии, своеобразный «антисемитизм» Маркиона[337] и предложение фон Гарнака убрать из христианского канона Ветхий Завет[338], увы, не способствовали мирному диалогу между христианами и иудеями. Сложно сказать, были ли все эти идеи фактором или следствием нараставшего антисемитизма, но ясно одно: в ту эпоху они были прочитаны весьма однозначным образом[339].
В этом контексте синкретизм Блоха, у которого Маркион – выразитель радикального мессианизма и тем самым – глубочайшей истины иудейской духовности, – особенно бросается в глаза. Можно было бы, конечно, сказать, что под иудейской духовностью Блох понимает особое мессианское направление в еврейском мистицизме[340], однако у него нет такой дифференциации. «Метафизический антисемитизм» Маркиона ранний Блох ценит гораздо выше «священной ойкономии» Ветхого Завета, в которой мессианские небеса из «педагогических» соображений спускаются на землю (GU1, 330). Маркион провозглашает радикально иное, вместе с апостолом Павлом, которого берет себе в союзники, противопоставляя иудейский закон Евангелиям. При этом аскетизм Маркиона у Блоха не противоречит гуманизму – бунт против религиозных догм и авторитетов означает помимо прочего поворот к человеку (AC, 238–240).
Конечно, не все идеи гностиков попали в тексты Блоха. Например, хотя он использует гностические представления о плероме (божественной полноте), но почти не говорит о трансцендентном генезисе – первой стадии развития мира, – избегая всей сложной и запутанной мифологической спекуляции гностиков[341], к тому же и существующей в разных, порой трудно совместимых версиях. Его, скорее, интересует в этих учениях радикальный дуализм и представление о том, что именно тайная жизнь человеческой души – источник спасения всего мира[342].
Интересно, что идея активного, становящегося Бога, который спасает не только мир и человека, но и самого себя, встречается и у Розенцвейга в «Звезде спасения». Рассуждая о вечности Бога, он пишет, что для Него спасение (избавление), творение и откровение – суть одно и то же, ибо Он стоит вне времени – время нужно человеку и миру, чтобы спастись. Конечные и связанные со временем дистинкции Спасителя и спасаемого для вечного Бога недействительны[343].
Лишь в спасении Бог превратится в то, что повсюду разыскивалось легкомысленным человеческим мышлением, но так нигде и не нашлось, потому что нигде еще и не могло найтись, ибо этого еще не было: Все и Одно[344].
Надо сказать, что зависимость судьбы Бога от судьбы мира – важная идея Бубера, обсуждавшаяся в его ранних лекциях о еврейской религиозности. Блох высказывается в том же духе: окончательный суд ждет и Бога, и человека (GU1, 439). В превращенной форме та же идея появляется чуть позднее и у Шелера: «Становление Бога и становление человека с самого начала взаимно предполагают друг друга»[345].
Конечно, мыслить действия Бога, не накладывая на них привычных антропологических схем, трудно, отсюда сложная космическая метафорика у Розенцвейга и двусмысленный, загадочный текст у Блоха, отсылающий к необычному и непрозрачному опыту. Отсюда же итоговая формула: «Мир не истинен, но с помощью человека и истины он хочет вернуться домой» (GU2, 347).
Пафос тотального мироотрицания Блох впоследствии сочетает с идеей прояснения тайны человечности. Отвергая современный мир, человек ничуть не теряет, напротив – обретает самого себя (AC, 240). Другое дело, что у раннего Блоха этот человек сгорает в ницшеанском костре, ибо радикализм гностических идей, как и любое абсолютное мироотрицание, всегда жжется – об этом свидетельствует, в частности, история рецепции Гарнака.
Перенимая стиль мысли гностиков, Блох вместе с тем отвергает гностический миф как миф. Говоря о чуждости человека миру, о его удаленности от Бога как об аномалии, он утверждает, что упразднить такое положение вещей, описывая переживания в абстрактных аллегориях или в традиционной символике, не получится. Пышная и отягощенная подробностями гностическая мифология для Блоха недостаточна, он стремится, вооружившись дуалистической метафизикой, привнести в свои тексты момент личностной непосредственности и тем самым, как это ни странно, от мифологии перейти к истории.