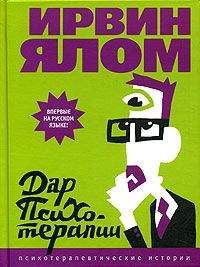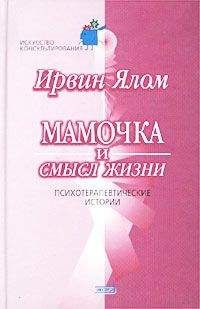Ирвин Ялом - Мама и смысл жизни
— Поглядите на этих крестьян, — сказала она. — Работают себе, даже не посмотрят туда, где мальчик падает с неба.
Она даже принесла стихотворение Одена, описывающее эту картину:
Рассмотрим «Икара» Брейгеля: с какой ленцой все вокруг
Взирает мимо трагедии; пахарь, сжимавший плуг,
Мог слышать вскрик и последний всплеск,
Но падению вряд ли придал значенье;
Солнца свет,
Как и положено свету, выбелил ноги, в зеленке вод
Тающие; а на роскошном паруснике народ,
Глянув было, как мальчик упал с небес,
Невозмутимо отбыл по назначенью.[11]
Что еще общего у ситуации Айрин с «Домашними похоронами» Фроста? Мать упорствует в своем горе, а практичного отца раздражает, что жена никак не успокоится; это тоже совпадало с тем, что Айрин рассказывала мне о своей семье.
Но эти наблюдения, как бы ни были они графичны и информативны, не объясняли в достаточной степени, почему Айрин так настаивала, чтобы я прочел статью. «Ключ к проблемам нашего с вами процесса,» — сказала она, и в этих словах крылось обещание. Я почувствовал себя обманутым. Может быть, я все же переоценил Айрин; может быть, в кои-то веки она промахнулась.
На следующем сеансе Айрин вошла в кабинет и, как обычно, прошествовала к своему месту, не глядя на меня. Она уселась поудобнее, поставила сумочку на пол рядом с собой, а потом, вместо того, чтобы несколько секунд молча глядеть в окно, как обычно в начале сеанса, сразу посмотрела на меня и спросила:
— Вы прочитали статью?
— Да, прочитал. Замечательная статья. Спасибо за рекомендацию.
— И? — Айрин хотела услышать что-то еще.
— Она меня заворожила. Вы рассказывали мне о том, как жили ваши родители после смерти Аллена, но, прочитав эти стихи, я словно увидел всё своими глазами. Теперь я гораздо лучше понимаю, почему вы не смогли снова поселиться с родителями, насколько тесно вы идентифицировали себя с поведением вашей матери, с ее борьбой против отца…
Я замолчал. Айрин смотрела на меня так, словно не верила своим ушам, и я осекся. На лице у нее отразилось невероятное изумление, словно она была учительница, а я ученик, чудовищно тупой и вообще непонятно как попавший к ней в класс.
Наконец она прошипела сквозь стиснутые зубы:
— Фермер с женой — это не мои родители. Это мы — вы и я.
Она замолчала, овладела собой и продолжила чуть мягче:
— Я имею в виду, у них есть что-то общее с моими родителями, но по сути фермер и его жена — это мы, вы и я, в этой самой комнате.
У меня голова пошла кругом. Ну конечно! Внезапно каждая строчка «Домашних похорон» окрасилась новым смыслом. Я лихорадочно думал. Никогда в жизни, ни до того, ни после, мне не приходилось так быстро соображать.
— Значит, это я притащил грязную лопату в дом?
Айрин отрывисто кивнула.
— И это я пришел на кухню в ботинках, облепленных могильной землей?
Айрин опять кивнула. На этот раз не так враждебно. Может, мне еще удастся искупить вину, главное — не медлить.
— И это я ругаю вас за то, что вы цепляетесь за свою скорбь? Это я говорю, что вы хватили через край, и спрашиваю, «зачем напрасно бередить себя»? Это я копаю могилу так размашисто, что гравий летит во все стороны? И это я постоянно раню вас словами? И это я пытаюсь протиснуться между вами и вашим горем? И, конечно же, это я преграждаю вам путь в дверях и пытаюсь насильно влить вам в горло лекарство от горя?
Айрин кивнула; слезы стояли у нее в глазах и катились по щекам. Впервые за три года отчаяния она открыто плакала в моем присутствии. Я протянул ей бумажный носовой платок. И себе взял один. Она потянулась ко мне и взяла мою руку. Мы снова были вместе.
Как же получилось, что мы так сильно разошлись? Оглядываясь, я понимаю, что столкнулись две совершенно разных мировоззрения: я — экзистенциальный рационалист, она — пораженный горем романтик. Может быть, конфликт был неизбежен; может быть, наши способы переживать горе принципиально несовместимы. Да и существует ли наилучший способ справляться с жестокими экзистенциальными фактами жизни? Думаю, Айрин в глубине души чувствовала, что есть лишь две, равно неприемлемые, стратегии: принять для себя, в какой-то форме, отрицание реальности или жить в невыносимом ежеминутном осознании ее фактов. Не эту ли дилемму высказал Сервантес устами бессмертного Дон Кихота: «Что тебе милее: мудрое безумие или дурацкая мудрость?»
У меня есть твердое убеждение, сильно влияющее на мой терапевтический подход: я не верю, что осознание реальности ведет к безумию, а отрицание — к здравости рассудка. Я всегда считал отрицание врагом и бросал ему вызов при каждом удобном случае — и в терапии, и в своей жизни. Я не только сам стараюсь отбросить все личные заблуждения, сужающие мой горизонт, делающие меня меньше и зависимее, но и пациентов своих поощряю делать то же самое. Я убежден: пускай мысль о том, чтобы встать лицом к лицу со своей экзистенциальной ситуацией, вызывает страх и трепет — в конце концов этот опыт исцеляет и обогащает личность. Мой психотерапевтический подход можно выразить словами Томаса Харди: «Не дойдешь до Лучшего, коль не готов Худшему смело в лицо взглянуть».[12]
И поэтому с самого начала терапии я взывал к Айрин гласом разума. Я поощрял ее репетировать со мной обстоятельства смерти мужа и последующие события:
— Как вы узнаете о его смерти?
— Вы будете с ним, когда он умрет?
— Что вы почувствуете?
— Кому вы позвоните?
Точно так же мы с ней репетировали и его похороны. Я сказал ей, что пойду на похороны, и если ее друзья не захотят задержаться у могилы, то уж я, во всяком случае, останусь. Если другие побоятся выслушать ее мрачные мысли, я, наоборот, потребую, чтобы она выложила их мне. Я попытался убрать ужас из ее кошмаров.
Каждый раз, когда Айрин переходила в царство иррационального, я неизменно вставал у нее на пути. Например, Айрин испытывала чувство вины из-за того, что ей было приятно проводить время с другим мужчиной. По ее мнению, получать удовольствие от чего бы то ни было означало изменять Джеку. Если Айрин шла с мужчиной на пляж или в ресторан, где прежде бывала с Джеком, она чувствовала, что предает его, разрушая неповторимость их любви. С другой стороны, когда она шла куда-нибудь, где раньше не бывала, ее мучило чувство вины: «Как я могу жить и наслаждаться новыми видами, когда Джек мертв?» Еще она чувствовала себя виноватой за то, что была недостаточно хорошей женой. Психотерапия помогла ей во многом измениться: она стала мягче, внимательнее к другим людям, ласковее.
— Как нечестно по отношению к Джеку, — говорила она, — что я теперь могу дать другому мужчине гораздо большее.
Снова и снова я сражался с подобными заявлениями.
— Где теперь Джек? — спрашивал я. Она всегда отвечала:
— Нигде… только в памяти… — в ее памяти и в памяти других людей. Айрин не верила в Бога и никогда не утверждала, что душа бессмертна или что существует какая-то другая жизнь после смерти. Поэтому я донимал Айрин рациональными доводами:
— Если он не в сознании и не наблюдает за вами, каким образом его задевает, что вы проводите время с другим?
Кроме того, напоминал я, Джек перед смертью открытым текстом сказал: он хотел бы, чтобы жена была счастлива и снова вышла замуж.
— Разве он хотел бы, чтобы вы вместе с дочерью утопали в скорби? Так что, даже если его сознание до сих пор где-то существует, он не сочтет, что вы его предали; он будет рад, что вы оправились. И в любом случае, — заканчивал свою речь я, — сохранилось ли где-то сознание Джека или нет — такие понятия, как «нечестно» и «предательство», не имеют смысла.
По временам Айрин видела яркие сны, в которых Джек был жив — это часто бывает с теми, кто потерял близкого человека — а когда просыпалась, ее как обухом по голове било осознание, что это лишь сон. Порой она горько рыдала, что он «где-то там» и страдает. Иногда, посещая кладбище, она плакала от «ужасной мысли», что он заперт в холодном гробу. Ей снилось, что она открывает морозилку и обнаруживает там миниатюрного Джека, глядящего на нее широко раскрытыми глазами. Я методично и безжалостно напоминал ей о ее убеждении, что «где-то там» его нет, его как разумного существа больше нет вообще нигде. Напоминал и о ее желании, чтобы он мог за ней наблюдать. По моему опыту, любой человек, потерявший жену или мужа, страдает от ощущения, что за его жизнью никто не наблюдает.
Айрин сохранила множество личных вещей Джека и часто рылась в ящиках его письменного стола, когда ей нужно было подобрать подарок для дочери ко дню рождения. Айрин была окружена таким количеством вещественных напоминаний о Джеке, что я боялся, как бы она не превратилась в мисс Хэвишем из романа Диккенса «Большие надежды». Эта литературная героиня, которую жених оставил у алтаря, настолько увязла в скорби, что многие годы жила, опутанная паутиной своей потери, не снимая подвенечного платья и не убирая со стола, когда-то накрытого для свадебного пира. Поэтому я все время убеждал Айрин отвернуться от прошлого, вернуться в жизнь, ослабить связи с Джеком: