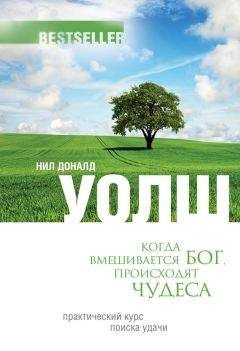Борис Парамонов - МЖ. Мужчины и женщины
Позднейшая реминисценция «Мух» – в «Словах»:
Брут убивает своего сына, Матео Фальконе – тоже. Стало быть, это принято. Но никто из наших знакомых почему-то к такой мере не прибегал. В Медоне мой дед однажды поссорился с дядей Эмилем, и я слышал, как оба кричали в саду, но дед, по-моему, не выражал намерения убить сына. Интересно, как он относится к детоубийцам? Сам я воздерживался от суждений: лично мне опасность не угрожала, поскольку я был сирота, и эти помпезные кровопролития меня даже забавляли. Однако в рассказе о них я улавливал одобрение, и это меня смущало. Вот, например, Гораций – я с трудом удержался, чтобы не плюнуть на гравюру, где он в шлеме, с обнаженной шпагой в руке гнался за бедной Камиллой. Карл иногда мурлыкал: «Будь ты сто раз богат родней, /А ближе нет, чем брат с сестрой...» Это меня смущало: значит, выпади мне счастье иметь сестру, она была бы мне ближе, чем Анн-Мари?.. Выходит, она считалась бы моей возлюбленной. Слово «возлюбленная» я часто встречал в трагедиях Корнеля. Возлюбленные целуются и дают друг другу клятву спать в одной постели (странная причуда – а почему не в двух стоящих рядом, как мы с матерью?). Больше я ничего не знал, но под лучезарной оболочкой понятия мне чудились какие-то дремучие дебри. Так или иначе, будь у меня сестра, мне не миновать бы кровосмесительных помыслов. У меня была старшая сестра – мать, мне хотелось иметь младшую. И поныне – в 1963 году – из всех родственных уз только родство брата с сестрой трогает меня.
Вот это сопоставление матери с сестрой – соучастие их в преступлении – дано в «Мухах». Плевок в одного из Горациев соотносим с плевком в рот матери. Психоанализ здесь излишен, «избыточен»: в том смысле, что не даст никакой новой информации, истина объявлена, провозглашена открытым текстом.
Завел бы дружбу я с соседкой-великаншей
И льнул к ее ногам, как сладострастный кот.
Это – Бодлер, о котором Сартр написал обширное эссе. Революция 1848 года нужна для того, чтобы убить генерала Опика – отчима Бодлера: переживание, совсем не свойственное Сартру, который не знал Эдипова соперничества со своим рано умершим отцом и обладал матерью, этой юной великаншей («Слова»), монопольно. Можно даже сказать, что ее второе замужество, когда она стала мадам Манси, освободило Сартра, в отличие от Бодлера, чувствовавшего себя обделенным.
Тут волей-неволей возникает вопрос о сексуальных особенностях Сартра, ибо нет лучшей «экзистенциальной», персональной иллюстрации или, лучше сказать, телесной манифестации его философии, чем соответствующие его «практики». Здесь имеется его собственное свидетельство, дословно воспроизведенное в книге Симоны де Бовуар «Прощание» (La Ceremonie des adieux), вышедшей на следующий год после смерти Сартра, в 1981 году.
Бовуар спрашивает: «Вы никогда не сознавали себя (в половом общении) пассивным объектом?»
Никогда. И никогда в качестве объекта, ласкаемого другим. Был зазор между тем, что делал другой в отношении меня, тем, что он давал или брал, – и этот зазор был во мне самом. Я не жалуюсь на свои сексуальные способности, эрекция у меня всегда легкая и быстрая, я совокупляюсь часто, но без большого удовольствия. Я предпочитаю быть в контакте со всем телом партнера, ласкаю в любовном акте всё тело, руки, ноги, и это предпочтительней того, что называется половым актом в ограничительном смысле. Мне нравится быть голым в постели с голой женщиной, касаясь и целуя ее, но без того, что обычно считается совокуплением. Другими словами, я мастурбирую женщину, а не совокупляюсь с ней.
Этот зазор – «свобода». В сущности, Сартр асексуален, сексуально пуст, он «уступает» женщине, как Блок в цикле «Черная кровь». Это что-то вроде «негативного инцеста», о котором Э. Фромм писал в связи с Гитлером. В позднейших изданиях «Бегства от свободы» Фромм иллюстрировал некрофилию Гитлера свидетельствами того, как на фронте он любил разглядывать разлагающиеся трупы. Это то же, что корни деревьев для Раконтена в городском саду Бувиля или, в финале «Тошноты», растительность, скрывающая и пожирающая город (отсюда, между прочим, финал «Ста лет одиночества» Маркеса, вместе с инцестом брата и сестры, оставшихся наедине друг с другом в погибающем культурном пространстве). Разве что у Сартра, в отличие от Гитлера, всё это не сопровождается аффектом ненависти. Вместо ненависти у него холод. «Это была свобода, но свобода, сильно похожая на смерть» («Тошнота»). Сартр избегает тепла, боится проникновения в «бытие», предпочитает, как кот, ластиться к ногам Великанши. Ему каждая женщина предстает такой Великаншей, и в сущности, он бежит от них, женщина вроде табу, совокупление всегда как бы инцест. Его преследует образ Великой Матери, названной им «бытием-в-себе», он дистанцируется от него, «зазор» у него ледяной: абсолютный нуль, «ничто». Он не способен дать этот архетип в юмористическом преломлении, как Феллини, отсюда холод и страх, фобия краба. Краб у него – вульва, «источник бытия» на картине Курбе. Сартр безлюбовен, безлюб – и даже боится самого себя («для-себя») едва ли не больше, чем «бытия-в-себе», краба.
Отсюда – его социализм, марксизм, пролетариат Бельвилля, даже совсем уж неподобный Алжир. Он хочет убедить себя – да и окружающих, – в том, что он способен что-то полюбить, кому-то сочувствовать, с чем-то «ангажироваться». Но всё это мертвый номер, «мертвая петля», и в конечном усмотрении – некое амбивалентное образование: прикровенный побег в то самое «бытие», капитуляция, отказ от свободы. Острый персонализм экзистенциальной установки не хочет отчуждаться в «ситуации», человек, действительно обретший себя экзистенциально, не может ужиться с промежуточными ступенями исторического бывания: нация, государство, культура. Для него как бы «логичнее» провалиться в ночь бытия. Его «возвращение в историю», солидарность с массами, «Алжир» – иллюзия, всё та же игра с «бытием», стоянье бездны на краю.
В «Тошноте» под видом характеристики маркиза Рольбона, о котором пытается написать книгу Раконтен, Сартр дал автопортрет:
Дай я себе волю, я бы так ясно его вообразил: под блестящей иронией, жертвой которой пали очень многие, кроется простая, чуть ли не наивная душа. Задумывается он редко, но во всех случаях, повинуясь особому наитию, действует именно так, как следует. В своем плутовстве он искренен, непосредствен, воистину великодушен и так же чистосердечен, как в своей любви к добродетели. Предав своих друзей и благодетелей, он со всей серьезностью обращает свои взоры к происшедшему, чтобы извлечь из него мораль. Он считает, что не имеет никаких прав на других, а другие на него, и дары, которые ему подносит жизнь, не заслужены им, но зато безвозмездны. Он страстно увлекается всем и так же легко ко всему остывает. А все его письма и труды писал вовсе не он – он заказывал их наемному писаке.
Этот наемный писака – сам Сартр после 1945 года: Сартр ангажированный. «Критика дилектического разума», в которой он задумал дать феноменологически выверенную социальную философию, относится к «Бытию и ничто» так же, как трилогия «Пути свободы» к «Тошноте» и «Стене»: явный упадок. В «Критике» это различат немногие, совсем уж изощренные специалисты, да и основной трюк «Критики» не лишен изящества: найти в социальной реальности аналог первоначального «бытия». Таким аналогом Сартр делает отчуждение. Советские авторы, действительно знавшие Сартра – Мамардашвили, Киссель, Кузнецов, – писали о «Критике диалектического разума» с заметной ухмылкой, и она шла не от требования непременного дистанцирования, а «от души», это чувствуется. Основной ошибкой, можно сказать пороком, самого замысла была идея феноменологической, хотя бы и марксистски окрашенной, социологии: феноменология – это метод, а не реальность, которую (Маркс) потребно изменить в (социальной) практике, феноменология «непрактична». Орудуя той или иной методологией, мы не выходим к тотальности бытия и ничего изменить в глубине его, целостно не можем. Методология, налагаемая на социальное бытие как его «истина», дает «тотализацию» только в дурном смысле тоталитарного порабощения, убиения той самой свободы, которую Сартр ищет – или делает вид, что ищет, – в историческом проекте.
В России существует культурный сюжет, дающий некую ироническую параллель к Сартру в обоих его – гуссерлианском и марксистском – периодах. Это книга Бахтина о Рабле. Как издавна повелось в России, труд, маскирующий себя литературоведением, на самом деле философский труд, причем данный в линии экзистенциализма: Бахтин – самостоятельный экзистенциалист; его сильное увлечение Хейдеггером относится, кажется, к поздним годам, когда он уже дал главные свои сочинения. «Коллективное (или гротескное) народное тело» – аналог «бытия» в экзистенциализме: