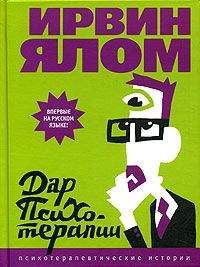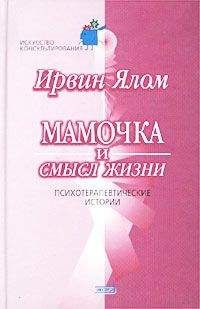Ирвин Ялом - Мама и смысл жизни
Айрин хотела, чтобы я был силен и здоров. Любая немощь — растяжение мышцы спины, травма колена, после которой потребовалась операция на мениске, простуда, грипп — вызывали у нее сильное раздражение. Я знал, что она еще и тревожится, но хорошо это скрывает.
Главное, за что она на меня сердилась — я был жив, а Джек мертв.
Мне приходилось нелегко. Я никогда не любил яростных стычек и в жизни стараюсь избегать гневливых людей. Поскольку моя работа заключается в том, чтобы мыслить и писать, а конфронтация с другими людьми замедляет мой мыслительный процесс, я на всем протяжении своей карьеры не участвовал в публичных дебатах и отказался занять пост заведующего кафедрой.
Так как же я справлялся с гневом Айрин? Во-первых, я, следуя банальному терапевтическому принципу, разделял роль и человека. Часто гнев пациента, направленный на терапевта, адресован в основном не человеку, а его роли. Молодых терапевтов учат: «Не воспринимайте нападки — или, по крайней мере, воспринимайте не все нападки — как направленные лично на вас. Постарайтесь разделять то, что относится к вашей личности, и то, что относится к вашей роли.» Мне казалось очевидным, что большая часть гнева Айрин относилась не ко мне, а к жизни, судьбе, Богу, равнодушию вселенной, просто Айрин изливала этот гнев на ближайший объект, то есть на меня, своего терапевта. Айрин знала, что ее гнев меня угнетает, и всячески давала мне понять, что сердится. Например, как-то раз, когда моя секретарша позвонила ей, чтобы перенести встречу, так как мне надо было к зубному врачу, Айрин заметила: «Ну да, ему, наверное, так неприятно меня видеть, что визит к зубному по сравнению с этим — удовольствие.»
Но вот, быть может, главное, что помогало мне сносить гнев Айрин: я всегда знал, что за ним скрываются глубокая скорбь, отчаяние и страх. Когда Айрин сердилась на меня, я иногда раздражался в ответ, но чаще выражал свое сострадание. Меня преследовали образы Айрин, ее слова. В особенности один ее рассказ поселился у меня в голове и неизменно помогал переносить припадки ее горестного гнева. Это был пересказ сна, действие которого происходило в аэропорту (в первые два года после смерти мужа она часто во снах бродила по аэропортам).
Я бегу по терминалу. Ищу Джека. Я не знаю, какой авиалинией он летит. Не знаю номера рейса. Я в отчаянии… просматриваю табло вылетов в поисках какой-нибудь подсказки… но ничего не могу понять… все пункты назначения записаны какой-то тарабарщиной. Потом появляется надежда — мне удается прочитать надпись над выходом на посадку: «Микадо». Я бегу туда. Но поздно. Самолет только что взлетел, и я просыпаюсь в слезах.
— Пункт назначения — Микадо? Каковы ваши ассоциации со словом «Микадо»? — спросил я.
— Мне не нужны ассоциации, — сказала она, словно щелчком откидывая мой вопрос. — Я точно знаю, почему во сне было «Микадо». Я в детстве пела арии из этой оперетты. Там есть одно двустишие, которое все время вертится у меня в голове:
«Может быть, ночь придет слишком рано, но у нас впереди еще долгие годы дня.»
Айрин замолчала и поглядела на меня. В глазах у нее блестели слезы. Слова были бесполезны. И для нее. И для меня. Она была за гранью утешения. С этого дня слова «у нас впереди еще долгие годы дня» звучали у меня в голове. Айрин и Джеку досталось слишком мало дней, и за это я мог простить Айрин что угодно.
Мой третий урок повышенной сложности, по горестному гневу, оказался бесценным для других клинических ситуаций. Там, где в прошлом я обычно спешил увильнуть от чужого гнева, пытаясь его как можно быстрее понять и устранить, теперь я научился идти ему навстречу и смело нырять в него. А в чем выразился этот урок? Здесь надо рассказать про черную грязь.
Урок 4. Черная грязь
В день смерти моего зятя Айрин угрожала уйти и спрашивала, хочу ли я быть с человеком, ненавидящим меня за то, что моя жена жива. При этом она упомянула про «черную грязь».
— Помните? — спросила она тогда. — Люди не любят пачкаться.
Это была метафора, которую Айрин использовала на большинстве сеансов в первые два года терапии.
Что же собой представляла эта черная грязь? Айрин часто пыталась подобрать точные слова.
— Это такое черное, отвратительное, едкое вещество, которое сочится из меня и растекается лужей. Черная грязь омерзительна и зловонна. Она отпугивает и отвращает любого, кто ко мне приближается. Она и их пятнает, подвергает их великой опасности.
У черной грязи много значений, но главным был горестный гнев Айрин. Потому она и ненавидела меня за то, что моя жена жива. Перед Айрин стоял ужасный выбор. Она могла хранить молчание, давясь собственной яростью, и страдать в отчаянном одиночестве. Или же она могла взорваться гневом, отпугнуть от себя всех окружающих и страдать в отчаянном одиночестве.
Поскольку образ черной грязи глубоко запечатлелся в мозгу Айрин и его не удавалось изгнать ни разумными доводами, ни риторикой, я использовал эту метафору в терапии. Чтобы развеять этот образ, нужно было не целительное слово, а целительное действие.
Поэтому я старался быть поближе к Айрин в ее гневе, встать с этим гневом лицом к лицу — как делал Джек. Мне нужно было втянуть Айрин в процесс, бороться с ее гневом, не дать ей меня оттолкнуть. Этот гнев принимал множество обличий — Айрин вечно расставляла мне ловушки и устраивала испытания. Одна такая особенно коварная ловушка предоставила мне благоприятную возможность для терапевтического воздействия.
Однажды, после нескольких месяцев сильного возбуждения и разочарований, Айрин явилась ко мне в кабинет необъяснимо спокойная и довольная.
— Я очень рад, что вы так спокойны, — заметил я. — Что случилось?
— Я приняла жизненно важное решение, — ответила она. — Отправила на свалку все надежды на личное счастье и самореализацию. Никаких больше поисков любви, секса, дружбы, творческой реализации. Отныне я всецело посвящу себя выполнению своих обязанностей — буду только матерью и врачом.
Говоря это, она явно владела собой и испытывала большое удовлетворение.
В предшествующие недели я очень беспокоился из-за силы и неутешности ее отчаяния и гадал, сколько она еще сможет выдержать. Так что, какой бы странной и резкой ни была перемена, я радовался, что Айрин нашла хоть какой-то способ уменьшить свою боль; и не стал слишком приглядываться к этому способу. Напротив, я воспринял его как благо — он чем-то напоминал состояние покоя, которого достигают некоторые буддисты, когда с помощью медитативных практик умеряют свое страдание, систематически отбрасывая все личностные привязанности.
Честно говоря, я не ждал, что преображения Айрин хватит надолго. Я надеялся, что, уйдя хоть на время от непрестанной боли, она сможет начать более позитивный цикл жизни. Если, успокоившись, она перестанет себя терзать, начнет принимать решения, которые помогут ей адаптироваться, найти новых друзей, может быть, даже встретить подходящего мужчину — тогда, думал я, более или менее все равно, почему она успокоилась; ей нужно просто выдвинуть лестницу и подняться по ней на следующий уровень.
Однако на следующий день Айрин позвонила мне в ярости:
— Вы понимаете, что натворили? Что вы за терапевт после этого? И еще говорите, что я вам не безразлична! Это все притворство! На самом деле вы готовы сидеть и спокойно смотреть, как я отвергаю все живое, что есть у меня в жизни — всякую любовь, радость, оживление — вообще всё! И если б вы просто сидели и смотрели — нет, вы хотели содействовать мне в убийстве моей личности!
Она снова стала угрожать, что прервет терапию, но мне все-таки удалось уговорить ее прийти еще на час.
После этого я несколько дней размышлял о случившемся. Чем больше я думал о том, что произошло, тем больше сердился. Я опять сыграл туповатого Чарли Брауна, который пытается пнуть мяч, а Люси неизменно убирает этот мяч в последний момент.[7] Ко времени нашего очередного сеанса мой гнев сравнялся с гневом Айрин. Это было больше похоже на борцовскую схватку, чем на терапевтический сеанс. Это была наша самая серьезная стычка. Из Айрин фонтаном били обвинения:
— Вы умыли руки! Вы хотите, чтобы я пошла на компромисс, убив самые важные части своей личности!
Я не стал притворяться, что сочувствую ей или что понимаю ее позицию.
— Мне до смерти надоело хождение по минным полям, — заявил я. — Надоели ловушки, которые вы мне расставляете, и в которые я чаще всего попадаю. А это была самая нечестная, самая коварная из всех ловушек.
Свою речь я завершил словами:
— Айрин, у нас очень много работы. — И добавил, цитируя ее покойного мужа: — Я не желаю терять время на чепуху.
Это был один из наших лучших сеансов. В конце его (разумеется, после очередного скандала по поводу истекшего времени и обвинения в том, что я вышвыриваю ее из кабинета) наш терапевтический союз был крепок, как никогда. Ни в написанных мною учебниках, ни на лекциях я не посоветовал бы студентам затевать гневные ссоры с пациентами; но подобный сеанс неизменно продвигал вперед нашу с Айрин терапию.