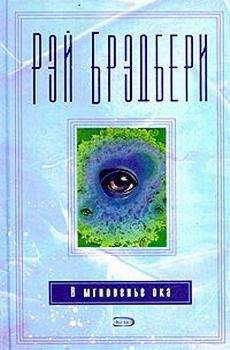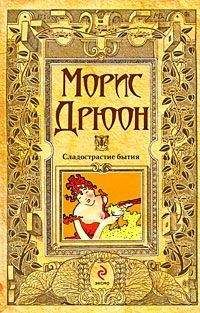Андрей Курпатов - Страх. Сладострастие. Смерть
О главной теме своего спектакля Роман Григорьевич всегда заявляет с самого начала и не заставляет нас мучительно искать главное, отделяя зерна от плевел. «Саломею» он начинает сценой суда над Уайльдом, сценой, где Уайльд предстает перед нами во всем великолепии и во всей искусственности своей излюбленной маски эстета. Иронизируя над своими судьями, Уайльд заявляет, что они вряд ли смогут оценить по достоинству удивительное благозвучие его имени; он просит их учесть, как красива сегодня его бутоньерка; он приуменьшает на несколько лет свой возраст и привлекает философию Платона в качестве адвоката. В этой сцене Роман Виктюк доводит феномен психологической игры до степени абсолютной очевидности. Жесты, интонации, позы, ритм – все говорит, просто вопиет об игре, о маске. Чрезвычайно точно выбрана и сама ситуация, ведь суд для Уайльда – это место реинкарнации его страха. И поэтому именно здесь, в «зале суда», его игра проявляется во всей своей полноте, с предельной яркостью. Непосредственная связь между страхом и игрой улавливается в сцене суда почти инстинктивно, подсознательно: мы просто вынуждены порождать игру под жестоким нажимом страха. Интересно, что сцена, в которой Уайльд принимает решение предстать перед судом, а не покинуть злосчастную для него Англию, сцена, предшествующая суду, отнесена Романом Виктюком почти в самый конец спектакля, к тому моменту, когда страх и любовь достигают своей высшей точки. Таким образом, переставляя события жизни Уайльда в обратном порядке, Роман Григорьевич замыкает перед нами круг, составляющий сущность его произведения.
Хотя Роман Виктюк ни на секунду не забывает о том, что игру человека можно только играть, он обязательно тщательно прорисовывает в спектакле одну, две, иногда три сцены, где актеры играют «навзрыд», то есть преодолевая человеческую маску, прорываясь в искренность. Но это не искренность сама по себе, коей в нашей жизни просто нет, а крик боли, которую приносит сдираемая с лица маска. Мы не можем снять и отбросить сроднившиеся с нами маски, а человеческая душа сама по себе, без содержательного обрамления незаметна как воздух. Поэтому момент истины вершится не когда мы якобы «искренни» и не когда мы «раскрываем душу», а в тот трагический миг, когда маска стягивается с израненного ею лица. Это точка трансгрессии, проявляющая истину. И эти изумительные по силе своего психологического воздействия сцены Роман Григорьевич облекает в такую разящую душу форму, которая не заглушает, а, напротив, оттеняет, усиливает боль, делает ее яркой, живой, то есть настоящей.
Искренность человека сообщается через способность переживать, испытывать боль. Боль, наверное, все-таки лучше бесчувственности. И если другие чувства нам теперь недоступны, то, может быть, лучше испытывать боль, чем вовсе ничего не чувствовать? По крайней мере, это очевидное свидетельство жизни. Боль сопровождает нас при рождении, она же – и врата в небытие смерти, поэтому в ней и скрыто все человеческое. Боль – это точка отсчета, с которой только и возможно начать новое движение из мрака бессилия чувств в Эдем жизни и любви. В «Саломее» Романа Виктюка сцены, где Ирод узнает о цене, назначенной царевной, и там, где Уайльд решается предстать перед судом, исполнены невыразимой боли. Здесь любовь встречается со страхом лицом к лицу, здесь смерть настигает душу и мнет ее в своих холодных объятьях. Смерть – ничто в сравнении со смертью души, приходящей через бесчувствие. Но страх смерти не оставляет места для чувства и душа человека гибнет от бремени страха прежде, чем успевает умереть тело. Уайльд боится позора, неизбежного для беглеца; у беглеца нет позы; Уайльд боится смерти своей позы; ибо он и есть – сама его поза, большего у него нет; он не знает, что обладает большим; и поэтому умрет прежде своей позы. Ирод боится клятвопреступления; его слово больше, чем жизнь; на себе это узнает Иоканаан, но «несчастье» смерти, которое предчувствует Ирод, постигнет именно его – тетрарха Иудеи. Страх – это имя мертвой души.
Уайльд писал, что если в произведении есть хоть что-то от реальности жизни, то это уже не Искусство. Это утверждение звучит, как отчаянная психологическая защита, как желание спрятаться от жизни, укрыться от нее, от приносимой ею боли и от страха, который она внушает слабому и ранимому человеку. Попытка сделать из жизни произведение Искусства беспощадно выдает страх перед самой жизнью, показывает, что для такого человека жизнь – Голгофа, что для него она ужасна, психологически невыносима, мучительна. И не случайно поэтому в письмах Уайльд, раздавленный своим падением, заключением, нищетой и бесчестием, раз за разом все с большей настойчивостью говорит о том, что единственный для него выход – это пустить себе пулю в лоб. Да, отказ от жизни не дает ничего, кроме ощущения смерти, своей уже случившейся смерти, но смерти не физической, а смерти души. Такова цена невротического, по сути, отказа от жизни, который сделал каждый из нас, подчас даже не осознавая этого, когда поддался своему страху.
Сцена «Саломеи» Романа Виктюка, в которой Робби уговаривает Уайльда бежать, а Бози требует от Оскара принять вызов, высвечивает внутреннее смятение человека, скованного страхом, перед невыносимостью жизни с поразительной отчетливостью. Ирод-Уайльд – это олицетворение трагедии «защищающегося человека», каковым является любой из нас. Эта же боль ранит и в сценах, где Ирод пытается удалить со своих стоп кровь несчастного молодого сирийца, и там, где Ирод узнает о цене, назначенной Саломеей. Роман Григорьевич показывает неприкрытую человеческую боль, показывает во всей ее полноте, во всей трагичности этой бездны, располагая ее расчлененной на плахе серебряного блюда, в серебряной ризе. Это «блюдо» отразило не крест Иоканаана, а предсмертный лик Саломеи, предсмертный лик Оскара Уайльда, наше лицо, искаженное гримасой страха…
Концепция
Кажется, что о концепции спектакля сказано уже многое, если не все, но это далеко не так. Концепция спектакля едина, тогда как знаков, прорисовывающих ее контуры, равно как и форм, служащих выражению этих знаков, в спектаклях Романа Виктюка всегда несколько. Но было бы неправильно формулировать концепцию спектакля сразу, мы подойдем к ней постепенно. Сначала мы остановимся на «страхе».
Если бы в спектакле не было танца Саломеи, такого танца, каким он разверзается перед нами во всем своем бесчинстве и ужасе, то, вероятно, мы могли бы сказать, что концепция спектакля такова: страх, запечатленный в душе каждого из нас, подобно «поцелуям Каевым», заставляет человека играть, носить маски, держать позу. Можно было бы этим ограничиться. Но танец Саломеи (подробнее мы остановимся на нем позже) не оставляет нам никакого шанса для подобного чересчур уж лаконичного анализа. Этот танец действительно способен привести нас в ужас, причем не в ужас, как сильнейшую форму страха, когда мы еще по определению готовы защищаться, а в Ужас, который вселяет великую растерянность, подобную полному параличу. Преодоление этой великой растерянности и есть та высшая точка человеческого бытия, к которой относит нас концепция «Саломеи» Романа Виктюка.
Прежде чем идти дальше, обратимся к абсолютному экзистенциальному авторитету, для которого Ужас есть не чувство, но способ познания Сущего через существо Ничто. Разумеется, речь идет о Мартине Хайдеггере. «Бывает ли в нашем бытии такая настроенность, которая способна приблизить его к самому Ничто? – вопрошает Хайдеггер. – Это может происходить и действительно происходит – хотя достаточно редко, только на мгновения, – в фундаментальном настроении ужаса. Под “ужасом” мы понимаем здесь не ту слишком частую способность ужасаться, которая по сути дела сродни избытку боязливости. Ужас в корне отличен от боязни. Мы боимся всегда того или другого конкретного сущего, которое нам в том или ином определенном отношении угрожает. Страх перед чем-то касается всегда тоже каких-то определенных вещей. Поскольку боязни и страху присуща эта очерченность причины и предмета, боязливый и робкий прочно связаны вещами, среди которых находятся. В стремлении спастись от чего-то – от этого вот – они теряются и в отношении остального, т. е. в целом “теряют голову”. При ужасе для такой сумятицы уже нет места. Чаще всего как раз наоборот, ужасу присущ какой-то оцепенелый покой. Хоть ужас всегда перед чем-то, но не перед этой вот конкретной вещью. Ужас перед чем-то есть всегда ужас от чего-то, но не от этой вот определенной угрозы. И неопределенностью того, перед чем и отчего берет нас ужас, есть не просто недостаток определенности, а принципиальная невозможность что бы то ни было определить».
Иными словами, Хайдеггер требует четко отличать страх от ужаса. Мы боимся всегда каких-то конкретных вещей, событий, действий. Иногда мы можем испытывать страх и не зная конкретной причины, но эта тревога всегда требует от нас поиска некой защиты, некоего убежища. Страх является прямым производным инстинкта самосохранения, а потому он достаточно тривиален по своей сути, он знаком и животным. Но животному не знаком (не понятен) феномен смерти, животное не знает смерти и не боится смерти, оно опасается за жизнь и ищет защиты. В мире есть лишь одно живое существо, которое знает о «существовании» смерти, – это человек. Именно этот страх и породил всю нашу «душевную жизнь», нашу этику и эстетику. Одновременно с появлением первых по-настоящему «разумных людей» появились и обряды захоронения соплеменников, а это свидетельствует о том, что человек с первых же шагов своего существования знал о смерти и боялся ее. Из этого источника и развилась наша экзистенция, именно она и противопоставляет человека небытию, именно она и «знает», что такое истинный Ужас. В безумии Ужаса мы не опасаемся действия каких-то факторов, способных принести нам тот или иной вред, сущность Ужаса как раз в том и состоит, что мы испытываем его перед пустотой, перед небытием, перед Ничто. А поскольку Ничто – обратная сторона Сущего (не существующего!), именно в состоянии ужаса мы приоткрываем завесу истины.