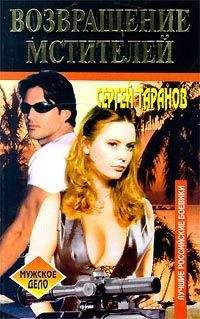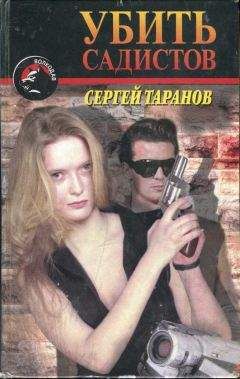Павел Таранов - Секреты поведения людей
Актерство и поза не то что в природе, а, почитай, в крови человека. Это не обязательно средство "игры на публику" или средство психологической самозащиты. И не только оно, скажем, орудие нападения, чтобы прикрыть подлинные намерения.
Зачастую разыгрывание спектакля нужно не как роль, а для адекватного соответствия той миссии, каковая уготована бывает нам возложением на нас какой-нибудь принуждающей функции. Вид такого поведения называется иезуитством, если обязывание носит карательно-наказывающий характер.
Изощренность издевательской пластики рожается при этом сама собой. Как появление паутины в углах под потолком комнаты!
А сам процесс всегда носит стандартный характер с обязательными «озабоченностью», «подковырками», "пугающими намеками" и "мнимой участливостью". Как в следующем случае. О нем рассказал поэт Евгений Александрович Евтушенко:
"Иезуитство цензуры тогда, в 1964 г., было утонченным. Не обошло оно и меня. Весьма далекий от либера Иезуиты (от лат, формы имени Иисус — lesus) — первоначально члены "Общества Иисуса", могущественной католической духовной организации (ордена), основанной в XVI веке Игнатием Лойолой, служившей для римского папства и феодальной знати сильным оружием в борьбе с реформационно-политическим движением нарождавшейся буржуазии. Для достижения своих целей иезуиты не гнушались обмана, лицемерия, любой подлости.
В эпоху социализма редактор журнала «Знамя» Вадим Кожевников показал мне верстку номера с моими стихами, испещренную чьим-то красным карандашом. Я спросил его: "Это Главлит?" 0н отрицательно покачал головой и поднял свой карандаш вверх, указывая мне уровень явно повыше Главлита. Очевидно, Кожевникову хотелось выглядеть хотя бы в данном случае приличным человеком.
"Если хочешь спасти стихи, иди к Ильичеву, — сказал он. — Жалуйся на меня". Я понял, что все карандашные пометки принадлежат не рядовым цензорам, а самому секретарю ЦК партии по идеологии. Про него тогда ходила такая частушка: "Начинается все снова, снова рубят все сплеча. Слишком много Ильичева, слишком мало Ильича…"
Я пришел на прием к Ильичеву и положил перед ним верстку, возмущаясь держимордизмом главного редактора «Знамени», как он меня о том и попросил. Для Кожевникова это было безопасно — за держимордизм еще никого не снимали. Ильичев взял в руки верстку, как будто не его пометки красным карандашом стояли тут и там, стал внимательно читать, выражая междометиями свое восхищение отдельными строчками. Кончив читать этот стихотворный цикл, он глубоко вздохнул, сморщил лысенький лоб и взглянул на меня жирными бегающими глазками поверх очков, сползших на коротенький поблескивающий нос.
— Плохо матросику, ой, как плохо… — вдруг замотал он головой, чуть не всхлипывая и испытующе сверля меня взглядом.
— Какому матросику? — недоуменно переспросил я.
— Как это — какому? Вашему матросику, вашему… — и Ильичев ткнул пальцем в стихотворение "Граждане, послушайте меня". — Вот он, ваш матросик, Евгений Александрович, сидит одинокенький, никому не нужный на палубе и песню под гитару поет. А его никто не слушает, Евгений Александрович, никтошеньки… Ведь я тоже матросиком был когда-то, поглядите… — и секретарь Центрального Комитета по идеологии протянул мне над зеленым бильярдным сукном государственного стола кулачок, заросший рыжим волосом, на котором была полусведенная, но все-таки заметная татуировка. Ильичев вскочил и лихорадочно заходил вокруг меня быстрыми шажками полненького, но крепенького человечка:
— А матросик-то ваш, Евгений Александрович, на кораблике едет. И кораблик-то это не простой, а "Фридрих Энгельс" называется. А что на этом кораблике у вас творится? Все водку пьют, или в карты играют, или танцуют — а на матросика несчастного ноль внимания. Это ж все до символа, Евгений Александрович, вырастает, до символа… Корабль — это наша страна. Толпа на корабле, водку, пардон, хлещущая, — это наш русский народ. А матросик несчастненький — это вы, Евгений Александрович. А какой же вы несчастный, что же вы такое фантазируете! И кто вас несчастным-то сделал — уж не Советская ли власть?
Ильичев остановил свое беганье вокруг меня, сел и подвинул ко мне уже остывший стакан чаю и вазочку с сушками:
— Да вы не стесняйтесь… Отведайте партийных сушечек. Евгений Александрович, вы, конечно, знаете художника Куинджи. У меня в моей скромной коллекции, кстати, есть одно его полотно. Но мою коллекцию с вашей не сравнишь. Наслышан, наслышан. А вот знаете ли вы о том, что он был к тому же знаменитым птичьим лекарем?
Бывает, начнет какая-нибудь певчая птичка, в неволе затосковав, из клеточки продираться и повредит себе крылышко… Несладко ведь песни-то петь в неволе, Евгений Александрович, ох, как несладко… Я ведь тоже здесь, в кабинете этом, как в клетке. Да что обо мне. Так вот многим певчим птичкам Куинджи или крылышки спасал, или косточки вправлял, или травяным настоем птичек отпаивал, ежели у них горлышко побаливало. А когда умер Куинджи, то, говорят, владельцы вылеченных им певчих птичек пришли на его похороны с клетками, открыли их, и все птицы сели на гроб художника и запели свою прощальную благодарную песню.
Ильичев перегнулся ко мне через стол и, перекошенно улыбаясь, почти зашептал, да так, что я невольно отшатнулся:
— А когда я умру, Евгений Александрович, разве какие-нибудь певчие птички помянут меня своей песней?
Так кто же из нас — несчастный матросик, Евгений Александрович, вы или я? А?
Ильичев устало откинулся на спинку стула, закрыл глаза и чуть застонал. И когда снова открыл глаза — они были энергичные, собранные, деловые. Рыжеволосая рука с татуировкой перепасовала мне мою верстку. Голос был будничный, рабочий:
— С Кожевниковым мы разберемся, Евгений Александрович. Засиделся он в своем редакторском кресле, засиделся. Только вы уж мне сами помогите напечатать эти стихи. Ну, придумайте другое название для корабля вместо "Фридрих Энгельс".
Ильичев захихикал, заелозил на стуле, стараясь меня подкупить своим садомазохистским юморком:
— Только не "Карл Маркс"… А то снимут не Кожевникова, а меня".
75. Закон "изначальной бессмысленности"
Не ищите смысл. Его поиск обрекает человека на мучения, настоящий результат которых всегда одинаково верен и бессмысленнен.
У Оскара Уальда есть короткая притча "Преданный друг". Писатель случайно услышал разговор… Коноплянка рассказывала Водяной Крысе о странной дружбе богатого, знатного Мельника и нищего садовника Ганса. Мельник называл себя преданным другом малыша Ганса и считал, что может в любое время дня и ночи войти в сад к Гансу, нарвать яблок, цветов, душистых трав и заодно поболтать о жизни. А Ганс? Был счастлив одаривать Мельника, лишь бы почаще видеть его у себя, слушать его восхитительные речи о вечной бескорыстной дружбе.
Коноплянка возмущена поведением Мельника: он только берет, берет и берет. Водяная Крыса, напротив, полностью одобряет подобные отношения.
Эта история не случайно любима психологами и приводится во всех учебниках. Права И. С. Кленская, когда пишет: "В ней, как в фокусе, сосредоточены многие проблемы и противоречия общения… Вдумайтесь, какая сложная ситуация… Здесь нет ни правых, ни виноватых, ни хитрых, ни простачков. Об очень многом заставляет она задуматься".
Именно так, задуматься! Крепко задуматься. Не ищите Смысл. Остановитесь! Да, тянет. Да, хочется. Да, есть особый настрой и прилив сил. Сдержите себя! Поиск Смысла столь же нелеп, как поиск сухой воды. Возможно, что такая есть. Но где? И разумен ли тот, кто увлечется этим?
76. Закон "или…"
Что-то ест загадочное, не до конца, ясное, мистически дожимающее нас в непереносимости ультимативного "или…".
В посмертных бумагах Антона Семеновича Макаренко сохранился отрывок, который не вошел в "Педагогическую поэму". Современные публикаторы произведений великого педагога помещают его в сопровождении условного заголовка "О взрыве":
"Взрывом я называю доведение конфликта до последнего предела, до такого состояния, когда уже нет возможности ни для какой эволюции, ни для какой тяжбы между личностью и обществом, когда ребром поставлены вопрос — или быть членом общества, или уйти из него. Этот последний предел может выражаться в самых разнообразных формах; формах решения коллектива, в формах коллективного гнева, осуждения, бойкота, отвращения; важно, чтобы эти формы были выразительны, чтобы они создавали впечатление крайнего сопротивления общества".
Чтобы было понятно, поясню. Речь идет о бурной реакции людей во время апогея противостояния сторон той, что представляет социализированный интерес, интерес общественно соотносимой группы и лиц в ней; и той, что представлена индивидуализированным или групповым походом. И весь вопрос в том, быть ли деструктивному началу и режиму деградации в позиции «сверху» или нормальный человеческий процесс отодвинет, уберет, сметет их.