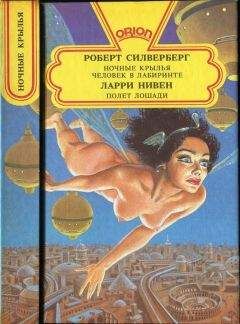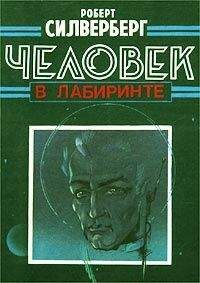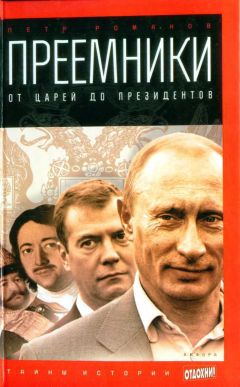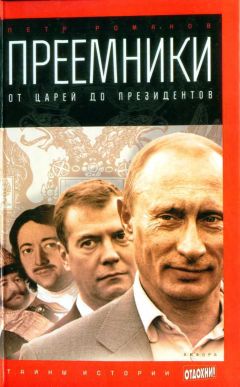Карен Свасьян - Человек в лабиринте идентичностей
23.
Обобщить человека, и не иначе, как каждый себя, может только каждый сам, равно как побрить брадобрея только сам брадобрей. Правда, обоим запрещено это, и запрещено строгой логикой, но правда и то, что покорности, с которой оба реагируют на запрет, впору было бы найти себе
лучшее применение. Если история западной мысли, особенно с вхождением в период души сознания, ознаменована постепенным, но решительным отрывом от греческой пуповины (в первую очередь, в естествознании), то можно вполне надеяться, что, при всем почтении к античной философии, мы ощутим, наконец, смехотворность стояния перед ней навытяжку там, где действительность давно переросла её во всех смыслах. Между временем грека Аристотеля и нашим временем лежит всё — таки не безмятежность смены дня и ночи, а нечто такое, что и не снилось отцу западной логики. Наконец — то, в эту логику проник человек, не силлогистическое чучело и не «сущность человека», а некто конкретный, «как ты и я». От Фейербаха, в тройной связке: Гегель — Фейербах-Штирнер, можно без усилий дотянуться до Гегеля; его «сущность человека» — это, повторим, всё тот же, только антропологизированный, Мировой Дух. От Штирнера оба отделены зонами. Экс — гегельянец и современник Дарвина Штирнер абсолютно порвавший с прошлым, неожиданно оказывается в зоне притяжения эволюционизма, откуда и дает мощный толчок исчерпавшей себя природе естествоиспытателей. Когда биологи отмечают сравнительно быстрые темпы человеческой эволюции (язык, мышление, культура), они топчутся всё еще в пределах двадцать второй ступени, пытаясь понять специфически человеческое средствами, годящимися для животного. Дело совсем не в языке и не в мышлении вообще, а в их индивидуальных осуществленностях. (Мне памятна реплика одного покойного друга, философа и лингвиста, сказанная им в связи с назначением одного университетского коллеги заведующим кафедрой французского языка. «Он так хорошо владеет языком», восторгалась одна из преподавательниц. На что мой друг заметил: «Да, но ему нечего на нем сказать».) По аналогии с человеком, который в ряду живых существ физически и биологически — по сложности и предрасположенности — кульминирует ряд, позволительно сформулировать вопрос, ведущий дальше: а что в человеке кульминирует самого человека? Понятно, что этим не может быть ни физическое тело, которое он разделяет с минеральным миром, ни жизненное тело сил размножения и роста, роднящее его с миром растений, ни тело ощущений, общее с животным царством, а то, в чем он единственен и несопоставим: способность мыслить всё это, как и способность пользоваться этой способностью, то есть, быть философом. Эволюция, завершившаяся на природе (в традиционном смысле), продолжается как философия природы или, если угодно, даже как история философии! Cum grano salis: а что, если, понятая так, история философии окажется своего рода естественным отбором мысли, в котором побеждает — таки сильнейшая! В самом деле, отчего бы не перенести пресловутый дарвинизм, раз уж он усилиями Спенсера и Тэйлора попал в социальное, из хозяйственного (где он моментально преображается в разбойничий капитализм) и правового (где он означает бесправие и тоталитаризм) в духовное — где он единственно уместен! Потому что, перенесенный на человеческое, естественный отбор с его survival of the fittest правомерен и необходим единственно в измерении ума и духа; каждый, даже самый бездарный, даже идиот, вправе требовать кусок хлеба, но страшно, если каждый, в том числе бездарный или идиот, станет требовать университетскую кафедру. Нужно просто обратить внимание на то, что философское пространство во все времена заселяют тьмы голов, из которых духовно выживают, проходят, так сказать, естественный отбор и попадают в историю философии лишь немногие светлые. Hic Rhodus, hic salta! Логика смысла, ведущая согласных и тащащая несогласных, ведет (тащит?) нас дальше. По аналогии: если человек — это высшее в природе, а мышление — высшее в человеке, то — с учетом человеческой фактичности, единичности, поименности — напрашивается последний, во всех отношениях последний (к тому же философски невозможный, потому что упраздняющий философию), вопрос: чье мышление? Это потенцированный до пес plus ultra Фома, спорящий с Сигером: «Manifestum est enim, quod hic homo singularis intelligit».[98] Западной философии пришлось прождать столетия, чтобы споткнуться об эту, хоть и пороговую, но всё еще аристотелевско — аверроистскую спекуляцию в шоковом исполнении Штирнера, где она стоит под знаком уже не метафизико — теологии, а эволюционной теории. Мышление — самый совершенный мировой процесс. Место свершения процесса — человек. Человек — всегда и только — hie homo singularis, вот этот вот. Римский прокуратор задал в свое время головоломку будущей философии, сведя её ultima ratio к указательному пальцу: Ессе homo! Кто же? Своеобразие вопроса в том, что он естественен и в то же время невозможен. Что может быть естественнее, чем спрашивать кто, когда речь идет о конкретном человеке? И что невозможнее, чем спрашивать об этом в конкретном данном контексте: по «гамбургскому счету», то есть, имея в виду самый совершенный мировой процесс? Не станем же мы всерьез искать этот процесс в первом попавшемся философском или каком угодно проходимце! На основании его принадлежности к семейству гоминидов, так сказать, а также во исполнение его прав человека! Подавляющее большинство людей (среди них философы, primi inter pares) не то, что сочтут вопрос немыслимым и невозможным, но просто не поймут, о чем вообще речь. А речь о том, что пилатовское «Ессе homo!» должно же было однажды раздасться и в философском пространстве, потому что без вопроса «кто?», как и без единственно возможного на него ответа: «я», философия навсегда замирает в своем остановленном, греческом, мгновении, время от времени протирая глаза и справляясь вместе с поэтом: «какое, милые, у нас тысячелетье на дворе?» Вот мы и спросим еще раз: кто? Или — мы сохраним нашу репутацию благоразумных и скажем: «Мы этого не говорили, вы этого не слышали». Потому что, говоря это и слыша это, либо сходят с ума на улицах Турина («Я брожу повсюду в своей студенческой тужурке, хлопаю случайного прохожего по плечу и говорю: siamo contend? son dio, ho fatto questa caricatura»[99]), либо начинают входить в наконец — то обретенную идентичность.
24.
Двадцать третья ступень — изгнание из рая общего в ад единичного и индивидуального. Важно помнить: Ньютон и Ламарк именно потому блистают в аду, что в раю они неразличимы ни с чем, ни даже со своим кучером, которого они превосходят не намного больше, чем он свою лошадь. Переход на двадцать третью ступень — переход от «что» к «кто»: от логической повторяемости родового к ежемгновенным новым началам (эмерджентам) случайного и сингулярного. По сути, эта двадцать третья ступень — последняя: не потому, что дальше нее нет уже ничего, а потому, что дальше нее может быть только она сама; мир продолжается здесь в новой мета — биологической фазе, где родовое оказывается разорвавшейся на куски гранатой, а каждый кусок (hie homo singularis) логической ошибкой pars pro toto, или синхронной трансформацией внешних телесных восприятий в мысль, чувство и волю. Основной закон физики на этой ступени выражается, поэтому, не как закон сохранения вещества или энергии, а как закон сохранения пережитого, потому что местом свершения мира является уже не природа естествоиспытателей, а внутренние миры (душа!) миллионов и миллионов ничего не подозревающих о происходящем людей, которых сначала поместили в гнездовую иерархию таксонов (по соседству с обезьянами, крысами и свиньями), а потом заставили считать себя индивидуально свободными… Двадцать третья ступень — седьмой, самый длинный и самый трудный, день Творения. Теологам впору самим отдохнуть, после того как они спровадили на отдых своего Бога, доведшего творение до homo sapiens и увидевшего, что «это хорошо». Настоящий (нетеологический) Бог, имеющий мужество не просто быть, а становиться и преходить[100], теперь, по завершении своего монументального филогенеза, от одноклеточных до чуда центральной нервной системы, обретает себя уже не как быкоголовое или собакоголовое инкогнито, ни даже как Ветхий деньми, а как человек и — трагедия. Седьмой день — мир, как решение и риск, новое начало мира, как решения и риска: уже не прежнего зоологического риска очутиться в тупиковой ветви развития, а риска отчаяться в собственном — физически удавшемся, но метафизически негодном — творении и желать ему (себе) скорейшего конца. «Мир стоит сегодня не только перед опасностью погрузиться в ари — маническое, опасность мира сегодня в том, что Земля теряет свою миссию».[101] Эдуард фон Гартманн, могучий и трезвый ум auf verlorenem Posten, медитирует участь Бога, которому не нашлось больше места ни в философском, ни в естественнонаучном сознании. Бог — это бесконечная боль и печаль о не — удавшемся творении. Его цель — избавление от страдания, но поскольку страданием является всякое существование, то избавляться приходится от существования, переводя больное и ущербное бытие в более совершенное небытие. Мировой процесс и есть непрерывная борьба с болью Божьей, завершающаяся уничтожением мира. Поэтому, нравственно жить, быть нравственным, значит участвовать в уничтожении мира. Мир — «чешущаяся сыпь на абсолютном» или даже «болезненный нарывной пластырь, наложенный Всеединым Существом на самого себя, чтобы вывлечь внутреннюю боль наружу и устранить её в её последствиях».[102] Люди — члены мира. В них страдает Бог. Он сотворил их, чтобы расщепить на куски свою бесконечную боль. Долг людей, не умеющих любить Бога, — сострадать ему и быть с ним солидарным, ища его искупления. Не каждый в отдельности, для себя, добивается этого, а только все вместе. Высшим предательством по отношению к Богу является, поэтому, самоубийство отдельных людей. Бог сотворил людей, чтобы они своими поступками добивались его, а не своего эгоистического, искупления. Так как Бог — носитель боли в каждом человеке, самоубийца не то что нисколько не уменьшает боль Божью, напротив, он создает Богу новые трудности в поисках замены себя, дезертира, новым, более сознательным и более ответственным сотрудником. Даже массовое коллективное самоубийство всех обитателей земного шара не решило бы проблему, а лишь отбросило бы её назад до стадии возникновения человечества, после чего бессознательному пришлось бы повторно сотворять людей и начинать всю канитель заново.[103] Космос исчезнет сам, когда актуальная воля мира будет уничтожена вся без остатка. Когда люди перестанут, наконец, хотеть, для чего в их распоряжение и предоставлена история, как совокупное умственное и нравственное самосовершенствование человечества на пути к освобождению Бога от его абсурдной воли. «Реальное существование есть воплощение Божества, мировой процесс — история страстей воплощенного Бога и в то же время путь к искуплению во плоти Распятого; а нравственность — совокупная работа по сокращению этого пути страдания и искупления».[104] — Гартманновский Рагнарёк дополняется панацеей теолога Карла Барта, Бог которого, хоть и не уступает бессознательному в отчаянии, но действует уже не как философ — имманентист, а в лучших традициях ветхозаветной трансцендентности. Барт:[105] «Нам конец; наше дело отнято у нас из рук, как дурное дело […]; но так как у нас, кроме этого дурного дела, нет никакого другого, само существование наше утратило смысл, а с ним кончились и мы, никому не нужные, лишенные будущего. […] Не устранением грехов, а устранением самого грешника, субъекта греха, устанавливается порядок, и не подношением лекарства, не хирургическим вмешательством оказывается тут помощь, а умерщвлением пациента?» Бартовское: «Es ist aus mit uns» — эпохально, как эпохален же и гартманновский энергичный и исполненный ответственности пессимизм; оба свидетельства — как прямое практическое следствие из той новейшей разновидности антропологии, которая в упомянутой выше шелеровской инвентаризации занимает четвертое по счету место в ряду традиционных пяти. Жизнь, изобретшая дух, — болезнь, а человек — «инфантильная обезьяна», которую как раз хватает на то, чтобы просить своего творца — неудачника прикончить её. Эта антропология останется в силе, как наиболее аутентичная, до тех пор, пока не станет ясно, что в ней нет человека, а есть всё та же двадцать вторая ступень, только с замашками двадцать третьей. «Инфантильная обезьяна», как мера всех вещей, — но и как неизбежный практикум вопроса: «что есть человек?» Потому что если метафизически на вопрос «что» откликался всегда не человек, а логическое чучело человека, то в контексте физики чучелу пришлось конкретно самоопределиться и разоблачить себя как инфантильную обезьяну. Удивительно не то, что это стало возможно, удивительно, что об этом ничего не знают и не желают знать: ни ученые мужи, ни неученые. Мир поставил себя под девиз No problem и бодро следует слепым вождям слепых. Физики продолжают, как ни в чем не бывало, открывать очередные частицы и радовать клиентов высокими технологиями; философы, как ни в чем не бывало, продолжают переставлять слова, рассчитывая неожиданными сочетаниями слов скрыть отсутствие мыслей. Честнее (адекватнее) всего ведут себя, с позволения сказать, художники, вымазывающие себя дерьмом и баснословно дорого сбывающие дерьмовых себя на дерьмовых аукционах. Если бы можно было, в преддверии бартовского «умерщвления пациента», говорить всё еще о надежде, то, наверное, не иначе, как с оглядкой на старого собачьего друга, ищущего человека с фонарем средь бела дня, но уже не средствами пилатовско — аристотелевской навигации, а воочию и наяву. Во всяком случае, возможность найти человека не блокировалась бы уже механизмами логики, отбрасывающими поиск обратно в зоологическое, а зависела бы от случая и личной судьбы.