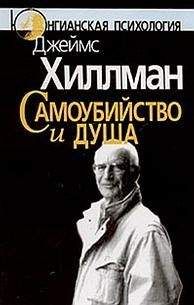Александр Моховиков - Суицидология: Прошлое и настоящее: Проблема самоубийства в трудах философов, социологов, психотерапевтов и в художественных текстах
Мой самоубийца есть именно страстный выразитель своей идеи, то есть необходимости самоубийства, а не индифферентный и не чугунный человек. Он действительно страдает и мучается, и, уж кажется, я это выразил ясно. Для него слишком очевидно, что ему жить нельзя, и – он слишком знает, что прав и что опровергнуть его невозможно. Перед ним неотразимо стоят самые высшие, самые первые вопросы: «Для чего жить, когда уже он сознал, что по-животному жить отвратительно, ненормально и недостаточно для человека? И что может в таком случае удержать его на земле?» На вопросы эти разрешения он получить не может и знает это, ибо хотя и сознал, что есть, как он выражается, «гармония целого», но я-то, говорит он, «ее не понимаю, понять никогда не в силах, а что не буду в ней сам участвовать, то это уж необходимо и само собою выходит». Вот эта-то ясность и докончила его. В чем же беда, в чем он ошибся? Беда единственно лишь в потере веры в бессмертие.
Но он сам горячо ищет (то есть искал, пока жил, и искал с страданием) примирения; он хотел найти его в «любви к человечеству»: «Не я, так человечество может быть счастливо и когда-нибудь достигнет гармонии. Эта мысль могла бы удержать меня на земле», — проговаривается он. И, уж конечно, это великодушная мысль, великодушная и страдальческая. Но неотразимое убеждение в том, что жизнь человечества в сущности такой же миг, как и его собственная, и что назавтра же по достижении «гармонии» (если только верить, что мечта эта достижима) человечество обратится в тот же нуль, как и он, силою косных законов природы, да еще после стольких страданий, вынесенных в достижении этой мечты, — эта мысль возмущает его дух окончательно, именно из-за любви к человечеству возмущает, оскорбляет его за всё человечество и — по закону отражения идеи — убивает в нем даже самую любовь к человечеству. Так точно видали не раз, как в семье, умирающей с голоду, отец или мать под конец, когда страдания детей их становились невыносимыми, начинали ненавидеть этих столь любимых ими доселе детей именно за невыносимость страданий их. Мало того, я утверждаю, что сознание своего совершенного бессилия помочь или принести хоть какую-нибудь пользу или облегчение страдающему человечеству, в то же время при полном вашем убеждении в этом страдании человечества, может даже обратить в сердце вашем любовь к человечеству в ненависть к нему. Господа чугунных идей, конечно, не поверят тому, да и не поймут этого вовсе: для них любовь к человечеству и счастье его — всё это так дешево, всё так удобно устроено, так давно дано и написано, что и думать об этом не стоит. Но я намерен насмешить их окончательно: я объявляю (опять-таки пока бездоказательно), что любовь к человечеству даже совсем немыслима, непонятна и совсем невозможна без совместной веры в бессмертие души человеческой. Те же, которые, отняв у человека веру в его бессмертие, хотят заменить эту веру, в смысле высшей цели жизни, «любовью к человечеству», те, говорю я, подымают руки на самих же себя; ибо вместо любви к человечеству насаждают в сердце потерявшего веру лишь зародыш ненависти к человечеству. Пусть пожмут плечами на такое утверждение мое мудрецы чугунных идей. Но мысль эта мудренее их мудрости, и я несомненно верую, что она станет когда-нибудь в человечестве аксиомой. Хотя опять-таки я и это выставляю пока лишь голословно.
Я даже утверждаю и осмеливаюсь высказать, что любовь к человечеству вообще есть, как идея, одна из самых непостижимых идей для человеческого ума. Именно как идея. Ее может оправдать лишь одно чувство. Но чувство-то возможно именно лишь при совместном убеждении в бессмертии души человеческой. (И опять голословно.)
В результате ясно, что самоубийство, при потере идеи о бессмертии, становится совершенною и неизбежною даже необходимостью для всякого человека, чуть-чуть поднявшегося в своем развитии над скотами. Напротив, бессмертие, обещая вечную жизнь, тем крепче связывает человека с землей. Тут, казалось бы, даже противоречие: если жизни так много, то есть кроме земной и бессмертная, то для чего бы так дорожить земною-то жизнью? А выходит именно напротив, ибо только с верой в свое бессмертие человек постигает всю разумную цель свою на земле. Без убеждения же в своем бессмертии связи человека с землей порываются, становятся тоньше, гнилее, а потеря высшего смысла жизни (ощущаемая хотя бы лишь в виде самой бессознательной тоски) несомненно ведет за собою самоубийство. Отсюда обратно и нравоучение моей октябрьской статьи: «Если убеждение в бессмертии так необходимо для бытия человеческого, то, стало быть, оно и есть нормальное состояние человечества, а коли так, то и самое бессмертие души человеческой существует несомненно». Словом, идея о бессмертии — это сама жизнь, живая жизнь, ее окончательная формула и главный источник истины и правильного сознания для человечества. Вот цель статьи, и я полагал, что ее невольно уяснит себе всякий, прочитавший ее.
Я могу укрыться от пограничных ситуаций, прерывая и забывая их. Я могу их стойко вынести, если перед их лицом в этом мире я делаю то, что возможно. Я могу выйти за их пределы, покидая наличное бытие, либо совершив абсолютный шаг, самоубийство, либо вступив в непосредственную связь с Богом. Религия дает нам возможность остаться в этом мире вместо того, чтобы покончить с собой, но она в конечном счете, то есть если не использовать ее для того, чтобы укрыться от пограничных ситуаций, вынуждает нас покинуть этот мир, оставаясь в мире, а именно, посредством аскетизма, бегства от мира и жизни вне мира, испытывая страдания в состоянии наличного бытия или действуя без всякого влечения к нему.
СамоубийствоПсихиатры, обозначая самоубийство термином «суицид», относят тем самым этот поступок к сфере чистой объективности. Литераторы называют самоубийство «свободной смертью» и, наивно предполагая существование высшей человеческой возможности, в каждом случае представляют этот поступок в несколько розовом свете, а это опять-таки скрывает его истинный смысл. Только слово «самоубийство» с необходимостью требует, вместе с осознанием его объективности как факта, представить весь ужас заключенного в данном поступке вопроса. Первая часть этого слова «само» выражает свободу, которая уничтожает наличное бытие этой свободы (в то время как прилагательное «свободная» говорит слишком мало, если бы отношение к самому себе в этом слове считалось уже преодоленным). Вторая же часть слова «убийство» выражает активность, проявляющуюся в насилии по отношению к тому, кто решился на этот шаг в силу неразрешимых внутренних противоречий (тогда как слово «смерть» соответствовало бы чему-то, аналогичному пассивному участию).
Человек не может пассивно жить, но он не хочет и пассивно умереть. Он живет благодаря активности и только посредством активности он может покончить с жизнью. Наше наличное бытие в том виде, в каком оно существует, девает невозможным пассивное участие в том случае, если мы этого желаем. Чистая пассивность существует только в естественной смерти, вызванной болезнью или насильственными действиями извне. Такова наша ситуация.
Самоубийство — это единственное действие, которое освобождает нас от всякой дальнейшей деятельности. Смерть, являющаяся для подлинного существования (Existenz) главной пограничной ситуацией, это событие, которое само приходит и которое не зовут. Только человек после того, как он узнает о смерти, стоит перед возможностью самоубийства. Он может не только сознательно рисковать жизнью, но решать, хочет ли он жить или нет. Смерть относиться к сфере его свободы.
1.Самоубийство как факт
Поступок, который как таковой не является с необходимостью необусловленным, будучи предметом статистического и специального исследования, никогда не может быть признан необусловленным с точки зрения психологических теорий. Только на границе предметного познания, использующего эмпирические методы исследования, самоубийство всплывает в качестве философской проблемы.
Исследования частоты случаев самоубийств показывают, что в Европе среди германских семей случаи самоубийств более часты, чем среди представителей других народов. Согласно этим данным, больше всего самоубийств в Дании. В Германии же в северных провинциях их число больше, чем в южных. С возрастом частота самоубийств увеличивается и становится наибольшей в возрасте 60-70 лет. Затем она снова падает. Статистика также свидетельствует, что пик самоубийств приходится на май-июнь и что в протестантских странах они совершаются чаще, чем в католических.
Эти и другие цифры, точные данные которых можно найти в статистических исследованиях, касающихся вопросов нравственности, ничего не говорят о душевном состоянии человека. Они не дают никакого закона, которому мог бы подчиниться индивидуум. Эти статистические закономерности только в случае больших обобщений дают представление об общем психологическом типе народов, возрасте и поле самоубийц. Они также указывают на те причины, которые, наряду с другими факторами, влияют, но не определяют характер самоубийства в каждом отдельном случае.